Ссылка еще на пару либеральных книг на тему "рынок и государство" (а также книгу М.Тэтчер "Искусство управления государством"):
http://www.kazakhnetserv.net
| 27 август 2020 | |
 |
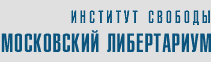 |
|
|
|||||||
| Пользователь: [login] |
настройки |
карта сайта |
статистика |
|
|||||||
|
ВВЕДЕНИЕ 1. Успехи социалистических идей Социализм -- это лозунг и отличительный признак нашего времени. Социалистическая идея -- доминанта духа современности. Массам она нравится. Она выражает мысли и чувства всех; она поставила свое клеймо на наше время. Когда будущий историк дойдет до нашего времени, он назовет эту главу "Эпоха социализма". И ведь так оно и есть. Социализм не создал общества, в котором бы воплотился его идеал. Но в течение времени большего, чем жизнь поколения, политика цивилизованных народов была направлена к постепенному воплощению социализма. ["Сейчас можно фактически утверждать, что современная социалистическая философия является сознательным и явным выражением принципов организации общества, которые большей частью бессознательно уже приняты. Экономическая история этого века есть почта непрерывная сводка успехов социализма" (Sidney Webb, Fabian Essays, 1889, Р. 30).] В недавние годы движение заметно усилилось и осмелело. Некоторые народы попытались воплотить социалистическую программу в полном объеме -- буквально одним ударом. На наших глазах русский большевизм уже совершил нечто, что независимо от нашей оценки значимости уже в силу самой грандиозности замысла должно рассматриваться как одно из самых поразительных свершений мировой истории. Никто и никогда не достигал столь многого. У других народов продвижению социализма вперед мешают только внутренние противоречия самого социализма и тот факт, что он не может быть воплощен полностью. Они также прошли сколько смогли при данных обстоятельствах. Принципиальной оппозиции социализму не существует. Ни одна влиятельная партия сегодня не рискнет открыто защищать частную собственность на средства производства. Слово "капитализм" выражает в наше время тотальность зла. Даже противники социализма подчинены социалистическим идеям. Противостоящие социализму партии, особенно так называемые "буржуазные" или "крестьянские", которые пытаются противопоставить ему свои особые классовые интересы, косвенно признают существенность всех основных социалистических идей. Ведь если социалистической программе можно противопоставить только то, что она угрожает интересам части человечества, значит, социализм уже признан. Если кто-то осуждает систему социальной и экономической организации, основанную на частной собственности на средства производства, за то, что она служит интересам единственного слоя и сдерживает рост производительности труда, а потому требует (вместе со сторонниками разных "социал-политических" и "социал-реформистских" движений) государственного вмешательства в экономику, тем самым он признает принципы социалистической программы. С другой стороны, если против социализма можно сказать только то, что он нереализуем в силу несовершенства человеческой природы или что при данных условиях хозяйствования не следует осуществлять полное обобществление, -- это ведь и есть капитуляция перед социализмом. Националист также признает социализм, но только отрицает его интернационализм. Он желает соединения социализма с идеями империализма, чтобы бороться против других народов. Он -- национальный, а не интернациональный социалист, но он также утверждает основные принципы социализма. [Ферстер {Ферстер Фридрих Вильгельм (1869--1966) -- немецкий теоретик политической этики, пацифист по убеждениям} в особенности отмечает, что рабочее движение достигло настоящей победы "в сердцах собственнических классов"; благодаря этому "нравственные силы сопротивления этих классов были подорваны" (Foerster, Christentum und Klassenkampf, Zurich, 1908, S. 111 ff.). В 1869 г. Принц-Смит {Принц-Смит Джон -- правильнее Смит Джон Принц, младший (1809--1874) -- английский политэконом} отметил, что социалистические идеи находят сторонников среди предпринимателей. Он указывает, что среди деловых людей, "как бы странно это ни звучало, есть такие, кто понимает свою собственную роль в национальной экономике со столь малой ясностью, что для них социалистические идеи выглядят как более или менее основательные. Отсюда у них ощущение нечистой совести, как если бы они признавали, что источником их прибыли служит доход наемных рабочих. Это делает их робкими и лишает проницательности. Это очень плохо. Нашей экономической цивилизации будет грозить серьезная беда, если ее активные деятели не смогут почерпнуть в чувстве полной своей правоты отвагу для решительной защиты ее основ" (Prince-Smith's, Gesammelte Schriften, Berlin, 1877, I Bd., S. 362). Принц-Смит, однако, не смог бы вести критическую дискуссию по вопросам социалистической теории.] Среди сторонников социализма не только большевики и их друзья в различных странах, и не только члены многочисленных социалистических партий. Социалистами являются все, кто верит в экономическое и моральное превосходство социалистического строя перед строем, основанным на частной собственности на средства производства, даже если они по тем или иным причинам стремятся к постоянному или временному компромиссу между своими социалистическими идеалами и своими частными интересами. Если мы определим социализм так широко, то увидим, что сегодня громадное большинство людей стоят на стороне социализма. Тех, кто исповедует принципы либерализма и считает единственно возможной формой экономической организации общества частную собственность на средства производства, очень немного. {У Мизеса термин "либерализм" выступает "в том смысле, как он использовался повсеместно в XIX в. и как он до сих пор используется в странах континентальной Европы. Такое использование обязательно, потому что просто нет другого термина для обозначения великого политического и интеллектуального движения, которое заменило докапиталистические методы производства свободным предпринимательством и рыночной экономикой; заменило абсолютизм монархов или олигархий конституционным представительным правительством; утвердило свободу индивидуума вместо рабства, крепостничества и других форм несвободы" (Mises, Human Action: A Treatise on Economics, 3rd ed., Chicago: Regnery, 1966, P. V).} Вот поразительный факт, иллюстрирующий успех социалистической идеи: мы привыкли называть социалистическими только те виды политики, которые стремятся к немедленной и полной победе социалистических программ, а движения, которые стремятся к тем же целям, но более умеренными и постепенными методами, мы обозначаем иначе, даже считаем их порой врагами социализма. Это может быть только результатом того, что число истинных противников социализма крайне мало. Даже на родине либерализма, в Англии, в стране, которая стала богатой и могущественной благодаря либеральной политике, люди больше не понимают истинного смысла либерализма. Сегодняшние английские "либералы" -- это более или менее умеренные социалисты. [Это отчетливо видно из программы современных английских либералов (Britain's Industrial Future, being the Report of the Liberal Industrial Inquiry, London, 1928).] В Германии, которая никогда не знала настоящего либерализма и которая обессилела и обнищала в результате антилиберальной политики, люди вряд ли имеют малейшее представление о том, что же такое на деле либерализм. Громадная власть русских большевиков держится на полной победе социалистических идей в последние десятилетия. Сила большевизма не в советских пушках и пулеметах, но в том факте, что большая часть мира воспринимает их идеи с симпатией. Многие социалисты считают большевистское предприятие преждевременным и провидят триумф социализма лишь в будущем. Но ни один социалист не остается равнодушным к словам, которыми Третий Интернационал призывает народы мира к войне с капитализмом. {Третий Интернационал (Коммунистический Интернационал) -- международное жестко централизованное объединение коммунистических партий. Учрежден в Москве в марте 1919 г., распущен из тактических соображений в период второй мировой войны -- в мае 1943 г.} По всей земле ощущается тяготение к большевизму. У вялых и слабых людей симпатия к большевизму смешивается с чувствами ужаса и восхищения, которые всегда возбуждают в робких оппортунистах отважные фанатики. Более смелые и последовательные люди безо всяких колебаний приветствуют наступление новой эпохи. 2. Научный анализ социализма Исходный пункт социалистического учения -- критика буржуазного устройства общества. Мы сознаем, что социалистические авторы были не слишком удачливы в этом деле. Мы знаем, что они не имели никакого представления о работе экономического механизма и что они не поняли функцию различных институтов общественного устройства, основанного на разделении труда и на частной собственности на средства производства. Нетрудно показать ошибки социалистических теоретиков при анализе экономических процессов: критики преуспели в разоблачении их экономических доктрин как грубого заблуждения. Но вопрос, является ли капиталистическое общество более или менее неудовлетворительным, не предопределяет решение вопроса, способен ли социализм предложить нечто лучшее. Мало доказать, что общественный порядок, основанный на частной собственности на средства производства, имеет недостатки и что он не создал лучшего из всех возможных миров; необходимо показать еще, что социалистическое устройство лучше. Только немногие социалисты пытались доказать это, а те, кто пытался, делали это большей частью в предельно ненаучном, порой даже в шутовском, стиле. Наука социализма пребывает в зародышевом состоянии, и не в последнюю очередь винить в этом следует ту ветвь социализма, которая называет себя научной. Марксизму было мало того, что он представил переход к социализму как необходимую стадию эволюции общества. Если бы он не пошел дальше, он не оказал бы столь пагубного влияния на научное исследование проблем общественной жизни. Если бы он ограничился описанием социалистического общественного порядка как лучшего мыслимого устройства общественной жизни, он не смог бы принести столько вреда. Но своей софистикой он помешал научному изучению социологических проблем и отравил интеллектуальную атмосферу эпохи. В соответствии с марксистской концепцией общественное бытие определяет сознание. Классовая принадлежность автора определяет выражаемые им взгляды. Он не способен выйти за рамки своего класса или освободить свое мышление от давления классовых интересов. ["Дело в том, что всякий ученый невольно поддается способу мышления того класса, среди которого он живет, и всякий вносит кое-что из этого способа мышления в свои научные воззрения" (Kautsky, Die soziale Revolution, 3 Aufl., Berlin, 1911, II, S. 39) <Каутский К., Социальная революция, Женева, 1904, С. 13>.] Так была отвергнута сама возможность существования всеобщего научного знания, имеющего силу для всех людей независимо от их классового происхождения, и Дицген {Дицген Иосиф (1828--1888) -- немецкий философ -- познакомившись с идеями марксизма, подпал под их влияние} был совершенно последователен, когда шел к созданию особой пролетарской логики. [Dietzgen, Briefe fiber Logik, speziell demokratisch-proletarische Logjk, Internationale Bibliotek, 22 Bd., 2 Aufl., Stuttgart, 1903, S. 112: "Наконец, пролетарская логика уже по одному тому заслуживает такого названия, что ее понимание требует преодоления всех предрассудков, в которых погряз буржуазный мир" <Дицген И., Аквизит философии и письма о логике, 3-е изд., М., 1913, С. 114>] Истинной может быть только пролетарская наука: "Идеи пролетарской логики являются не только партийными идеями, но и выводами логики вообще" [Ibid., S. 112 <там же, С. 114>]. Так марксизм оградил себя от любой нежелательной критики. Не нужно опровергать врага: достаточно разоблачить его как агента буржуазии. [Ирония истории в том, что и сам Маркс стал жертвой такого подхода. Унтерман {Унтерман Эрнст -- немецкий, а затем американский философ, последователь Дицгена; критиковал ряд положений марксизма с социалистических позиций} полагает, что "умственная жизнь даже типичных пролетарских мыслителей марксистской школы" содержит "остатки прошлых эпох мышления, хотя и в рудиментарной форме. Эти рудименты сказываются тем сильнее, чем большая часть жизни мыслителя прошла в буржуазном или феодальном кругу до момента, когда он присоединился к марксизму. Таковы печальные факты в случае с Марксом, Энгельсом, Плехановым, Каутским, Мерингом и другими видными марксистами" (Untermann, Die Logischen Mangel des engeren Marxismus Munchen, 1910, S. 125). {Плеханов Георгий Валентинович (1856--1918) -- русский философ-марксист, деятель международного и российского социалистического движения. Каутский Карл (1854--1938) -- немецкий экономист и философ, пропагандист марксизма, деятель германского социалистического движения и II Интернационала. Меринг Франц (1846--1919) -- немецкий философ и историк, последователь марксизма, деятель германского рабочего движения. Маркс, Энгельс, Каутский и Меринг происходили из зажиточных буржуазных семей; Плеханов по происхождению дворянин.} Так же и Де Ман {Де Ман Гендрик (1885--1953) -- бельгийский социолог и политический деятель, один из лидеров бельгийских социалистов; в конце 20-х годов порвал с марксизмом} считает, что для понимания "особенностей и различия теорий" нужно принимать во внимание не только общественное происхождение мыслителя, но также и стиль его экономической и социальной жизни -- "буржуазной жизни ... в случае окончившего университет Маркса" (De Man, Zur Psychologie des Sozialismus, Neue Aufl., Jena, 1927, S. 17).] Марксизм критикует всех инакомыслящих, представляя их в виде продажных слуг буржуазии. Маркс и Энгельс никогда не пытались противопоставить оппонентам какие-либо аргументы. Они оскорбляли, высмеивали, оплевывали, клеветали и порочили их. Последователи марксизма не менее умело пользуются всеми этими методами. Их полемика никогда не направлена на аргументы оппонента, но всегда -- на его личность. Немногие смогли выдержать такой стиль полемики. Немногим, очень немногим хватило отваги, чтобы критически противостоять социализму, хотя это и является долгом ученого при подходе к любому объекту исследования. Только этим можно объяснить тот факт, что как сторонники, так и противники социализма без споров подчинились запрету, который марксизм наложил на подробное обсуждение экономических и социальных условий социалистического общества. С одной стороны, марксизм провозглашает, что обобществление средств производства есть цель, к которой все экономическое развитие ведет с неизбежностью законов природы; с другой стороны, он представляет это же обобществление как цель всей политической борьбы. Таким образом был продемонстрирован первый принцип социалистической организации. Запрет на изучение того, как работает социалистическое общество, в оправдание которого приводилась куча банальных аргументов, на деле имел целью скрыть слабости марксистского учения и избавить его от опасности разоблачения, неминуемой при обсуждении вопроса, как создать жизнеспособное социалистическое общество. Освещение сущности социалистического общества могло погасить энтузиазм масс, которые искали в социализме спасения от всех земных бед. Успешное подавление опасных исследований, которые были причиной провала всех предыдущих социалистических теорий, было мастерским тактическим ходом Маркса. Только благодаря тому, что люди не могли говорить или мыслить о природе социалистического общества, социализм сумел превратиться в господствующее политическое течение в конце XIX и в начале XX столетий. Нельзя проиллюстрировать эти утверждения лучше, чем процитировав писания Германа Когена одного их тех, кто в десятилетия перед мировой войной {здесь и далее, где это особо не оговорено, под мировой войной Л. Мизес подразумевает первую мировую войну 1914--1918 гг.} оказывал сильнейшее влияние на немецкую мысль. {Коген Герман (1842--1918) -- немецкий философ, глава марбургской школы неокантианства. Коген был одним из создателей теории "этического социализма", обосновывавшей социализм кантовской этикой.} "Сегодня, -- говорит Коген, -- уж никак не отсутствие понимания может нам помешать в осознании сути социального вопроса, а значит, -- хоть украдкой -- и необходимости политики социальных реформ, но только злая или недостаточно благая воля. Неразумное требование представить для всеобщего обозрения картину будущего государства, имеющее целью привести в замешательство партию социализма, может быть объяснено только существованием таких порочных натур. На место нравственных требований права пытаются поставить картину государства, тогда как само понятие государства является производным от понятия права. Вот так в результате выворачивания понятий наизнанку смешивают этику социализма с поэзией Утопии. Но этика -- не поэзия, а идея не требует образного воплощения. Ее образом является реальность, которая может возникнуть только по ее образцу. Сегодня можно видеть в правовом идеализме социализма универсальную истину общественного сознания, конечно, такую, что пока еще представляет собой общественную тайну. Только эгоизм, имплицитный идеалам обнаженный алчности, каковым является истинный материализм, отказывает ему в доверии" [Cohen, Einleitung mit kritischem Nachtag zur neunten Auflage der Geschichte des Materialismmus von Friedrich Albert Lange, 3 Aufl., Leipzig, 1914, S. 115; см. также Natorp, Sozialpadagogik, 4 Aufl., Leipzig, 1920, S. 201 f. <Наторп П., Социальная педагогика: теория воспитания воли на основе общности, Спб, 1911, С. 169 и след.>]. Человек, который так говорил и писал, превозносился как величайший и отважнейший немецкий мыслитель своего времени, и даже противники уважали его ум. Как раз по этой причине необходимо подчеркнуть, что Коген не только совершенно некритичен по отношению к требованиям социализма и принимает запрет на исследование механизмов социалистического общества, но он еще и клеймит как моральную низость всякую попытку привести в замешательство "партийный социализм" требованиями осветить проблемы социалистической экономики. В истории нередки случаи, когда смелость мыслителя, критический ум которого обычно не щадит ничего, застывает перед могущественным идолом своего времени -- даже великий Кант {Кант Иммануил (1724--1804) -- родоначальник немецкой классической философии}, перед которым так преклонялся Коген, виновен в этом грехе [Anton Menger, Neue Sittenlehre, Jena, 1905, S. 45, 62]. Но чтобы философ обвинил в злонамеренности, извращенности и открытой алчности не просто всех тех, кто держится иного мнения, но даже тех, кто только пытается прикоснуться к проблеме, опасной для сохранения авторитета, -- это, к счастью, в истории мысли встречается редко. Всякий, кто не подчинялся безусловно этому насилию, подлежал осуждению и запрету. Таким образом социализму удавалось из года в год расширять свое влияние, и при этом никто не пытался основательно исследовать вопрос, как же он будет работать. В результате, когда однажды марксистский социализм пришел к власти и начал реализовать свою программу, ему пришлось признать, что у него нет отчетливого представления о том, к чему он десятилетиями стремился. Обсуждение проблем социалистического общества есть в силу этого дело величайшей важности, и не только для понимания противоположности между либеральной и социалистической политикой. Без такого обсуждения невозможно понять ситуации, ставшие обычными после начала движения к национализации и муниципализации. До сих пор экономическая теория с объяснимой, но вызывающей сожаление односторонностью исследовала только механизм общества, основанного на частной собственности на средства производства. Пробел следует заполнить. Должно ли общество быть построено на основах частной или общественной собственности на средства производства -- это вопрос политический. Наука его не решает; она не выносит решений, ценна ли данная форма организации общества или не стоит ни гроша. Но только наука, исследуя действие общественных институтов, может создать основу для понимания общества. Хотя человек действия, политик, может порой не обращать внимания на результаты такого анализа, мыслитель никогда не упустит случая для изучения всего, что доступно уму человека. И в конечном итоге именно мысль должна определять действие. 3. Альтернативные методы подхода к анализу социализма Есть два подхода к проблемам, которые социализм ставит перед наукой. Философ культуры может попытаться найти социализму место в ряду других явлений культуры. Он выясняет его идейное происхождение, исследует его отношение к другим формам общественной жизни, ищет его скрытые источники в душе индивидуума, пытается понять его как массовое явление. Он исследует его влияние на религию и философию, на искусство и литературу. Он пытается показать его отношение к естественным и гуманитарным наукам своего времени. Он изучает его как стиль жизни, как выражение психики, как проявление моральных и эстетических воззрений. Это историко-культурно-психологический подход. На этот путь вступают все снова и снова, здесь создаются книги и статьи, имя которым легион. Нам никогда не следует заранее выносить суждение о научном методе. Есть только один пробный камень его плодотворности -- успех. Вполне возможно, что историко-культурно-психологический метод также сделает немалый вклад в разрешение проблем, которые ставит социализм перед наукой. Неудовлетворительность его результатов до сих пор следует приписать не только некомпетентности и политическим предрассудкам прежних исследователей, но прежде всего тому факту, что социолого-экономическое исследование проблем должно предшествовать историко-культурно-психологическому исследованию. [В 20-х годах Мизес все еще обозначал науку о деятельности человека как "социологию". Позднее он решил использовать термин "праксеология" (производное от греческого praxis, что значит действие, привычка или обычай). В "Предисловии" к Epistemological Problems of Economics (Princeton, Van Nostrand, I960; N. Y.: NYU Press, 1981) он следующим образом комментирует использование термина "социология" в статье 1929 г., включенной в эту книгу "... в 1929 году я еще верил, что нет нужды в новом термине для обозначения общей теоретической науки о деятельности человека в отличие от исторических исследований, изучающих прошлые действия. Я думал, что для этой цели можно использовать термин социология, который, по мнению некоторых авторов, и был создан для обозначения такой общей теоретической науки. Только позднее я осознал, что это нецелесообразно, и принял термин праксеология". -- Прим. американского издателя] Ведь социализм есть программа преобразования экономической жизни и устройства общества в соответствии с определенным идеалом. Чтобы понять его воздействие на другие области умственной и культурной жизни, нужно сначала ясно понять его социальное и экономическое значение. До тех пор, пока эти вопросы не выяснены, неразумно подступаться к историко-культурно-психологическим толкованиям. Нельзя говорить об этике социализма, пока не выяснено его отношение к другим этическим системам. Адекватный анализ его реакций на религиозную и общественную жизнь невозможен, пока мы имеем только смутные представления о его существенных свойствах. Невозможно обсуждать социализм вообще, не изучив предварительно устройство и работу общества, основанного на общественной собственности на средства производства. Это отчетливо дает себя знать каждый раз в исходных моментах историко-культурно-психологических исследований. Сторонники этих методов видят в социализме конечное осуществление демократической идеи равенства, не определив заранее, что же именно реально означают равенство и демократия и в каком отношении они находятся между собой, не уяснив также, насколько существенна для социализма идея равенства. Иногда они видят в социализме реакцию психики на духовное опустошение, производимое неотделимым от капитализма рационализмом; иногда, напротив, они утверждают, что социализм стремится к высочайшей рационализации хозяйственной жизни, которой никогда не достичь при капитализме. [Мукле {Мукле Фридрих (1883--?) -- немецкий экономист} даже ожидает от социализма, что он принесет с собой одновременно "высочайшую рационализацию хозяйственной жизни" и "освобождение от самого чудовищного варварства -- капиталистического рационализма" (Muckle, Das Kulturideal des Sozialismus, Munchen, 1918).] Здесь мы не станем обсуждать тех, кто загружает свой теоретический и культурный анализ социализма хаосом мистицизма и умонепостигаемых фраз. Эта книга исследует прежде всего социологические и экономические проблемы социализма. Мы должны разобраться с этими вопросами, прежде чем сможем обсуждать культурные и психологические проблемы. Анализ культуры и психологии социализма может опираться только на результаты этих исследований. Только социологический и экономический анализ может дать твердое основание для такого изображения, столь привлекательного для широкой публики социализма, которое позволит оценить его в свете общих упований рода человеческого. ЧАСТЬ I. ЛИБЕРАЛИЗМ И СОЦИАЛИЗМ Глава I. Собственность 1. Природа собственности Собственность, рассматриваемая как социологическая категория, представляет собой возможность использования экономических благ. Хозяином является тот, кто распоряжается благом. Таким образом, социологическое и юридическое понятия собственности различны. Это вполне естественно, и можно только удивляться тому, что порой этот факт не вполне осознается. С социологической и экономической точек зрения собственность есть владение благами, необходимыми для достижения экономических целей человека [Bohm-Bawerk, Rechte und Verhaltnisse vom Standpunkte der volkswirtschaftlichen Guteriehre, Innsbruck, 1881, S. 37]. Это владение может быть названо натуральной или исходной собственностью, поскольку оно представляет собой физическое отношение к благам и не учитывает социальных отношений между людьми или правового порядка. Смысл же правовой концепции собственности как раз в том, что она делает различие между физическим владею и правовым должен владеть. Закон признает и тех собственников, владельцев, у которых отсутствует это естественное владение, -- тех, которые не обладают, хотя должны были бы обладать. В глазах Закона "он, у которого было украдено", остается владельцем, тогда как вор никогда не может обрести прав собственности. С экономической точки зрения, однако, только натуральное владение относится к делу, и экономический смысл правового термина должно принадлежать заключается лишь в оказании поддержки приобретению, сохранению и возврату натурального владения. Для закона собственность есть однородное установление. Не важно, идет ли речь о собственности на блага первого или более высоких порядков. Безразлично, рассматривается ли собственность на потребительские блага длительного пользования или собственность на продукты питания и услуги. В этом безразличии проявляется формализм закона, не интересующегося экономическим смыслом происходящего. Конечно, закон не может вполне абстрагироваться от существенных экономических различий. Своеобразие земли как средства производства есть отчасти причина того, что землевладение рассматривается законом особенным образом. Экономические различия более определенно, чем в самом законе о собственности, выражены в отношениях, которые в социологическом плане эквивалентны отношениям собственности, но юридически только прилегают к ним -- (имеются в виду сервитут и особенно узуфрукт). {Сервитут -- ограниченное право использовать чужую собственность, преимущественно земельную, например, право крестьян собирать хворост в помещичьем лесу. Узуфрукт -- право пользоваться чужим имуществом и доходами от него, не подвергая его при этом изменениям.} Но в целом закон формально в равной мере охватывает все независимо от материальных различий. С экономической стороны собственность никоим образом не может быть единообразной. Собственность на потребительские блага и собственность на средства производства различаются во многих отношениях, так же как различны собственность на блага длительного пользования и собственность на блага, потребляемые одномоментно. Блага первого порядка, т. е. потребительские блага, служат непосредственному удовлетворению желаний. Если это блага, используемые одномоментно, т. е. такие, которые по своей природе могут быть использованы только единожды и теряют свои полезные свойства после использования, то весь смысл собственности практически сводится к возможности их потребить. Собственник может также сгноить их, не используя, либо сознательно уничтожить, либо обменять, либо отдать. В любом случае он распоряжается их принципиально неделимым употреблением. Положение с благами длительного пользования, с теми благами, которые могут быть использованы неоднократно, несколько иное. Они могут служить последовательно нескольким людям. Опять-таки в экономическом смысле в качестве собственников здесь выступают те, кто может обратить в свою пользу потребительские свойства благ. В этом смысле комната принадлежит тому, кто занимает ее в рассматриваемый момент; Маттерхорн, поскольку эта гора в Альпах является частью природного парка, -- тому, кто заберется на эту вершину, чтобы насладиться видами; владельцами живописного полотна являются те, кто наслаждается созерцанием его [Fetter, The principles of Economics, 3 ed., N. Y., 1913, P. 408]. Обладание полезными свойствами этих благ разделимо, а значит, и собственность на эти блага также может быть совместной. Производственные блага служат удовлетворению потребностей лишь непрямым образом. Они используются при производстве потребительских товаров. Потребительские блага возникают только в результате успешного соединения производственных благ и труда. Именно эта способность -- непрямым образом служить удовлетворению потребностей -- является отличительной характеристикой производственных благ. Распоряжаться производственным благом -- значит физически владеть им. Обладание производственными благами имеет экономический смысл только потому и постольку, поскольку ведет в конечном итоге к обладанию потребительскими благами. Благами одноразовыми, готовыми к потреблению, может обладать -- и единожды -- тот, кто их потребляет. Благами длительного пользования, готовыми к потреблению, могут обладать -- поочередно -- многие люди, но одновременное использование, даже если природа блага это допускает, приводит к тому, что одни мешают получать удовлетворение другим. Несколько человек одновременно могут любоваться картиной (хотя при этом некоторые из них не получают доступ к самой выгодной позиции разглядывания, что снижает их удовлетворение), но пальто не могут одновременно носить два человека. Применительно к потребительским товарам обладание, которое ведет к удовлетворению желаний, не может быть разделено в большей степени, чем это допускается природой самого блага. Это означает, что для одноразовых благ принадлежность одному полностью исключает принадлежность всем другим, а для благ длительного пользования принадлежность является исключительной, не допускающей ни малейшего участия других, по крайней мере в данный момент времени. Применительно к потребительским благам нельзя ни в коей мере представить другое экономически значимое отношение, кроме индивидуального натурального обладания. Как блага, потребляемые однократно и окончательно, так и блага длительного пользования (по крайней мере, та минимальная доля их, которая сохраняет полезность) могут находиться в натуральном владении только одного человека. Собственность здесь является одновременно и частной собственностью в том смысле, что другие люди лишаются преимуществ, создаваемых правом распоряжаться этими благами. По этой же причине было бы абсурдно думать об устранении либо о реформировании собственности на потребительские блага. Никоим образом невозможно изменить то, что яблоко съедается, а пальто изнашивается пользователем. Чисто физически потребительские блага не могут быть совместной собственностью нескольких или общей собственностью всех. В случае потребительских товаров то, что обычно называют совместной собственностью, подлежит разделу до потребления. Совместность владения прекращается в тот момент, когда благо потребляется или используется. Для потребителя обладание всегда индивидуально и исключительно. Совместная собственность не может быть ничем иным, как основанием для приобретения благ из общего запаса. Каждый индивидуальный партнер -- владелец той части общего запаса, которую он может использовать для себя. При этом вопросы, является ли он законным собственником до дележа или же делается таковым лишь в результате дележа, да и становится ли он вообще собственником по закону и предшествует ли формальный акт дележа акту потребления, -- все эти вопросы не относятся к экономической проблематике. Фактом является то, что и без всякого раздела он является собственником своей доли. Совместное владение не может устранить собственности на потребительские блага. Оно только делает возможным такое распределение собственности, какое не возникло бы при иных условиях. Совместное владение самоограничено, как, впрочем, и все другие новации, замыкающиеся в сфере потребительских благ. Оно реализуется в необычном распределении существующих запасов. Когда этот запас распределен, дело кончено. Пустые кладовые таким путем не наполнить. Это под силу только тем, кто управляет наличными производительными благами и трудом. Если им не подходит то, что предлагается взамен, поток благ, заполняющий кладовые, иссякает. Таким образом, успех любой попытки изменить распределение потребительских благ неизбежно зависит от власти над средствами производства. В противоположность ситуации с потребительскими благами владение производственными благами может быть разделено в физическом смысле. В условиях изолированного производства условия совместного владения производственными благами те же, что и в случае с потребительскими благами. Где нет разделения труда, владение благами может быть разделено, если можно разделить те услуги, которые создаются этими благами. Владение одноразовыми производственными благами не может быть совместным. Владение производственными благами длительного пользования может быть совместным, если таков характер создаваемых этими благами услуг. Только один человек может обладать данным количеством зерна, но несколько человек могут поочередно пользоваться молотком. Река может вращать много мельничных колес. Нет ничего специфического в том, как решается вопрос о собственности на производственные блага. Но если существует разделение труда, владение такими благами обретает двузначность: физическое владение (непосредственное) и социальное владение (косвенное). Физически владеет тот, кто физически распоряжается вещью и производительно ее использует; в социальном плане владеет тот, кто, не имея возможности физически или юридически распоряжаться вещью, может косвенно воздействовать на результаты использования этой вещи, т. е. может выменивать или покупать те продукты или услуги, которые этой вещью производятся. В этом смысле натуральное владение в обществе с разделением труда -- это владение и того, кто производит, и того, для чьих нужд производится. Крестьянин, живущий самодостаточным хозяйством вне системы обмена, может говорить о своих полях, своем плуге, своих вьючных животных, имея в виду, что они служат только ему одному. Но фермер, производство которого связано с торговлей, который производит для рынка и покупает на рынке, является владельцем средств производства совсем в другом смысле. Он не контролирует свое производство так, как это делает самодостаточный крестьянин. Он не определяет цели своего производства; решают те, для кого он производит, -- потребители. Они, а не производитель, определяют цель экономической деятельности. Производитель только направляет производство к тем целям, которые установлены потребителями. Но более отдаленные владельцы средств производства не могут в этих условиях предоставить свое физическое владение средствами производства непосредственно на службу производству. Поскольку всякое производство представляет собой комбинацию различных средств производства, некоторые владельцы таких средств должны передавать свое право физического владения другим, чтобы последние могли привести в действие ту комбинацию, которая и способна производить. Владельцы капитала, земли и труда предоставляют эти факторы в распоряжение предпринимателя, который и берет на себя непосредственное управление производством. Предприниматель опять-таки направляет производство согласно указаниям потребителей, которые являются не кем иным, как владельцами средств производства: собственниками капитала, земли и труда. Каждый из факторов получает ту долю продукта, на которую он экономически имеет право согласно ценности его производительного взноса. В сущности, как видно, натуральное владение
производительными благами весьма отлично от
натурального владения потребительскими благами.
Чтобы владеть производительными
благами в экономическом смысле, т. е. извлекать
из них пользу для своих экономических целей,
вовсе не нужно владеть ими физически, как,
например, должен владеть потребительскими
благами тот, кто намерен их потребить или
пользоваться ими длительное время. Чтобы выпить
кофе, мне не нужно владеть кофейной плантацией в
Бразилии, океанским сухогрузом и заводом, на
котором обжаривают зерна, хотя все эти средства
производства должны быть задействованы, чтобы
чашечка кофе попала ко мне на стол. Достаточно
того, что другие владеют этими средствами
производства и используют их для меня. В обществе
с разделением труда никто не является
исключительным собственником средств
производства -- будь то материальные вещи или
личная способность к труду. Все средства
производства предоставляют услуги каждому, кто
покупает или продает на рынке. Потому-то, если мы
не склонны здесь рассуждать о совместной
собственности потребителей и владельцев средств
производства, нам придется рассматривать
потребителей как истинных владельцев в
физическом смысле, а собственников в юридическом
смысле понимать как управляющих собственностью
других людей. Это, однако, уведет нас слишком далеко от принятого смысла слов. Чтобы избежать неверного понимания, желательно сколь можно дольше обходиться без новых слов и никогда не использовать слова, имеющие какое-либо определенное значение, в совершенно другом смысле. Посему, оставляя в стороне любую специальную терминологию, давайте лишь подчеркнем еще раз, что в основе своей собственность на средства производства в обществе с разделением труда отличается от таковой же собственности в обществе, где разделения труда не существует, а также что она отличается от собственности на потребительские блага. Чтобы избежать непонимания, мы будем использовать слова "собственность на средства производства" в общепринятом смысле, т. е, для обозначения непосредственной власти распоряжаться ими. 2. Насилие и общественный договор Физическое обладание экономическими благами, что в экономическом плане образует существо отношений собственности, могло стать владением только в результате захвата. Поскольку собственность не является чем-то независимым от воли и действий человека, невозможно представить себе иного способа возникновения собственности, как присвоение ничьих благ. Однажды установившись, собственность длится, пока не исчезнет ее объект, пока его либо уступят добровольно, либо он покинет своего владельца против его воли. Первое случается, когда владелец добровольно уступает свою собственность, второе -- когда он расстается с ней вынужденно, например, когда стадо разбежится, либо если кто-нибудь силой отнимет собственность. Вся собственность имеет начало в захвате и насилии. Когда мы рассматриваем природные составляющие благ, не принимая во внимание входящий в них труд, и когда мы прослеживаем назад во времени юридические права, мы с необходимостью приходим к моменту, в который это право возникло из захвата чего-либо, к чему доступ имели все. И до этого момента мы можем обнаружить насильственную экспроприацию у предыдущего владельца, право которого можно проследить до еще более раннего присвоения или грабежа. Перед лицом тех, кто отрицает собственность из соображений естественного права, мы можем спокойно признать, что все права имеют своим первоисточником насилие, что вся собственность есть наследие присвоения или грабежа. Но отсюда вовсе не следует, что устранение собственности есть дело необходимое, разумное и морально оправданное. Натуральная собственность не нуждается в признании других. Ее терпят фактически только до тех пор, пока нет силы, которая разрушит ее, и она не способна пережить момент, когда более сильный человек решит взять все себе. Созданная произвольной силой, она обречена всегда страшиться более могущественной силы. Именно такое положение дел доктрина естественного права назвала войной всех против всех. {Выражение "война всех против всех" принадлежит английскому философу Томасу Гоббсу (1588--1679). Оно характеризует отношения людей на догосударственной стадии. Государство и вместе с ним "естественное право" возникло, по Гоббсу, на основе общественного договора.} Война прекращается, когда существующие отношения получают признание как нечто стоящее сохранения. Из насилия возникает право. Доктрина естественного права ошибочно сочла это великое изменение, которое подняло человека из состояния дикости к цивилизации, результатом сознательного процесса, результатом такой деятельности, когда человек полностью осознает свои мотивы, свои цели и пути их достижения. Предполагалось, что именно так был заключен общественный договор, в результате которого появились государство, общество и правовой порядок. Рационализм не мог найти никакого другого объяснения после отказа от прежней веры, которая возводила общественные установления к божественным источникам или, по крайней мере, к озарению, посещавшему человека по божественному вдохновению. [Этатистская социальная философия {этатистская социальная философия -- философия, объясняющая развитие общества деятельностью государства и его институтов}, возводящая все эти установления к "государству", возвращается к старому теологическому объяснению. При этом государству приписывается тот же статус, который теологи приписывали Богу.] Поскольку результатом стало существующее положение вещей, люди рассматривали развитие общественной жизни как совершенно целесообразное и разумное. Как бы еще могло совершиться все это развитие, если не посредством сознательного выбора, признаваемого целесообразным и разумным? Сегодня у нас есть другие теории для объяснения всего этого. Мы говорим о естественном отборе в борьбе за существование и о сохранении приобретенных свойств, хотя все это на самом деле не приближает нас к пониманию конечных загадок ближе, чем объяснения теологические или рационалистские. Мы можем "объяснить" возникновение и развитие общественных установлении тем, что они были полезны в борьбе за существование, сказавши, что те, кто их принял и развил наилучшим образом, оказались лучше подготовленными к опасностям жизни, чем те, кто отстал в этом. Обращать внимание на неудовлетворительность такого объяснения сегодня -- все равно, что носить сов в Афины. {В древнегреческой мифологии сова как символ мудрости была посвящена богине Афине -- покровительнице Афин. Изображения сов чеканились на афинских монетах, именовавшихся в просторечии "совами". Отсюда, видимо, пошла поговорка "носить сов в Афины", т. е. совершать нечто излишнее, ненужное (русский аналог -- "ездить в Тулу со своим самоваром").} Времена, когда оно нас удовлетворяло и когда мы выдвигали его как конечное решение всех проблем бытия и становления, давно прошли. Здесь та точка, в которой усилия отдельных наук соединяются, в которой начинаются великие философские проблемы -- и в которой кончается вся наша мудрость. Не нужно большого разума, чтобы показать, что закон и государство не могут быть возведены к общественному договору. Нет нужды привлекать утонченный аппарат исторической школы, чтобы показать, что никакой общественный договор никогда в истории не мог быть заключен. Научный реализм, несомненно, превосходил рационализм XVII и XVIII веков {рационализм -- философское учение, согласно которому разум является основой бытия, познания и морали; к рационалистам принадлежали Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. В. Лейбниц} в знании того, что можно извлечь из текстов на пергаменте и надписей, но его социологическая проницательность была куда слабее. Как бы мы ни оценивали социальную философию рационализма, нельзя отрицать, что он достиг непреходящих результатов в раскрытии роли общественных установлении. Именно рационализму, прежде всего, мы обязаны нашими первыми знаниями о функциональной значимости правового порядка и государства. Экономическая деятельность нуждается в стабильных условиях. Протяженный во времени процесс производства бывает тем успешнее, чем дольше длится тот период, к условиям которого он приноровлен. Он требует непрерывности, и ее нельзя нарушать, не рискуя самыми серьезными потерями. Это означает, что экономическая деятельность нуждается в мире, в исключении насилия. Мир, говорят рационалисты, является целью и задачей всех правовых установлении; мы предполагаем, что мир является их результатом, их функцией [J. S. Mill, Principles of Political Economy, People's ed. London, 1867, P. 124 <Милль Д. С., Основания политической экономии, Спб, 1909, С. 167--168>]. Закон, говорят рационалисты, возник из договора; мы говорим, что закон есть урегулирование и конец раздора, избежание раздора. Насилие и закон, война и мир есть два полюса общественной жизни. Но содержанием этой жизни является экономическая деятельность. Все насилие направлено на собственность других. Личность -- ее жизнь и здоровье -- становится объектом атаки постольку, поскольку она препятствует приобретению собственности. (Садистские эксцессы, кровавые выходки, совершаемые только ради жестокости, -- это исключительные явления. Для их предотвращения не нужна вся система права. Сегодня врач, а не судья рассматривается как подходящий борец с этими явлениями.) И потому не случайно, что именно в деле защиты собственности закон с наибольшей ясностью раскрывает свой характер миротворца. В двунаправленной системе защиты владения при различении собственности и имущества особенно живо видно существо закона как миротворца -- да, миротворца любой ценой. Имущество защищается, даже если оно, как говорят юристы, не имеет титула собственности. {Отсутствие титула собственности -- неподтвержденность прав собственника соответствующими документами.} Не только честные, но и бесчестные владельцы, даже воры и грабители, могут прибегнуть к закону для защиты своего имущества [Dernburg, Pandekten, 6 Aufl., Berlin, 1900, 1 Band., 11 Abt., S. 12]. Некоторые полагают, что собственность, как она проявляется в распределении имуществ во всякий данный момент, может быть атакована с тех позиций, что она образовалась незаконно, в результате произвольного присвоения и насильственного ограбления. Согласно этому пониманию все законные права есть не что иное, как облагороженное временем беззаконие. Поскольку такое положение не согласуется с вечной, неизменной идеей справедливости, существующий законный порядок следует отвергнуть и на его месте утвердить новый, который будет согласовываться с этим идеалом справедливости. Задачей государства не должен быть "только учет сложившегося распределения имущества, не исследующий законности его источников". Скорее, "назначение государства состоит, прежде всего, в том, чтобы дать каждому свое, ввести его во владение его собственностью, а потом уже начать ее охранять" [Fichte, Der geschlossene Handelstaat, Hgb. Medicus, Leipzig, 1910, S. 12 <Фихте И. Г. Замкнутое торговое государство, М., 1923, С. 35>]. При таком понимании приходится либо постулировать вечно действенную идею справедливости, которую государство должно распознать и реализовать, либо признать источником истинного закона -- вполне в духе теории договора -- общественный договор, каковой может возникнуть только в результате единодушного согласия индивидуумов отказаться в его пользу от части своих естественных прав. В основе обеих гипотез лежит представление естественного права о "прирожденных правах". Либо мы должны вести себя в соответствии с ними, как гласит первая точка зрения, либо согласно второй точке зрения нам следует отказаться от части своих прав в соответствии с условиями договора, запечатленного существующей системой права. Что же касается источника абсолютной справедливости, то он истолковывается иным способом. Согласно одному подходу это дар Провидения человечеству. Согласно другому -- человек создал это понятие собственным разумом. Оба подхода совпадают в том, что способность человека отличать справедливость от несправедливости и есть то, что отделяет человека от животного; его "моральная природа". Сегодня мы больше не можем принять эти взгляды, ибо предпосылки подхода к проблемам изменились. Для нас представление о природе человека как фундаментально отличной от природы всех других созданий кажется странным; мы больше не представляем себе человека существом, которое изначально носит в себе идею справедливости. Но, быть может, если мы не отвечаем больше на вопрос о происхождении закона, нам следует прояснить, что он не мог возникнуть законным образом. Закон не может породить себя из себя же. Его истоки лежат вне сферы закона. Те, кто сокрушается о том, что закон есть не что иное, как узаконенная несправедливость, не сознают, что иначе могло бы быть лишь в том случае, если бы закон существовал изначально. Если же предположить, что закон некогда возник, тогда то, что стало законом, не могло быть им до этого. Требовать, чтобы закон возник законно, -- требовать невозможного. Поступающие так пытаются применить к тому, что находится вне рамок законного порядка, концепции, действительные только в рамках этого порядка. Мы, способные видеть лишь результат закона, призванного устанавливать мир, должны осознать, что он мог возникнуть только из признания сложившегося порядка, как бы этот порядок ни образовался. Попытки иного подхода служили бы только обновлению и продлению вражды. Мир может прийти, только когда мы защищаем сложившееся положение дел от насильственных беспорядков и ставим каждое будущее изменение в зависимость от согласия всех участников. В этом реальное значение защиты существующих прав, что и составляет сердцевину всего закона. Закон не возникает как нечто совершенное и законченное. Он развивался тысячелетиями и все еще продолжает свое развитие. Эпоха его зрелости -- эпоха нерушимого мира -- может никогда не наступить. Напрасно систематизаторы права догматически стремятся сохранить давнишнее различие между частным и публичным правом, доставшееся нам от прошлого и понимаемое на практике далеко не однозначно. Неудача таких попыток, склонившая многих отказаться от указанного различия, не должна удивлять нас. Это различие -- догма, а не реальная действительность; система права однородна и не поддерживает его. Различие это исторично, оно -- результат постепенной эволюции и совершенствования идеи права. Идея права была, прежде всего, реализована в той сфере, где поддержание мира было всего нужней для обеспечения целостности экономики, -- в отношениях между индивидуумами. Только для дальнейшего развития цивилизации, которая вырастает на этом фундаменте, становится существенным установление мира в более высоких сферах. Этой цели и служит публичное право. Формально оно не отличается от частного права, но ощущается как нечто отличное. И это потому, что оно только позднее достигает того же развития, что частное право ранее. В публичном праве принцип защиты существующих прав еще не развит столь же сильно, как в частном праве. [Либерализм пытался расширить охрану приобретенных прав через развитие концепции прав человека и обеспечение правовой защиты их в суде. Этатизм и социализм, напротив, пытаются все основательнее ограничить сферу частного права в пользу публичного права.] С чисто внешней стороны незрелость публичного права легче всего узреть из того факта, что оно менее систематизировано, чем частное право. Международное право все еще неразвито. Во взаимоотношениях между народами все еще признается произвольное насилие как решение, приемлемое при некоторых условиях. В то же время в других областях, которые регулируются публичным правом, произвольное насилие в форме революции находится вне закона, хотя и нету средств для эффективного предотвращения такого насилия. В сфере частного права насилие совершенно вне закона, за исключением случаев необходимой обороны, когда особые обстоятельства допускают его как действие законной защиты. Тот факт, что нечто ныне являющееся правом, было изначально несправедливостью или, точнее говоря, было вне сферы права, не свидетельствует об ущербности правового порядка. Так может воспринимать ситуацию тот, кто пытается найти обоснование правопорядка в морали и справедливости. Но этот факт никоим образом не свидетельствует о необходимости или полезности отказа от системы собственности или ее изменения. Попытка доказать, что этот факт узаконивает требование уничтожения отношений собственности, -- это абсурд. 3. Теория насилия и теория общественного договора Торжество идеи права было медленным и трудным. Медленно и с трудом она вытесняла принцип насилия. Вновь и вновь одолевало старое; вновь и вновь история права начиналась сызнова. О древних германцах Тацит {Тацит Публий Корнелий (ок. 56 -- ок. 117) -- римский историк; его перу принадлежит "Germania" -- описание общественного устройства, верований и быта германских племен} сообщает: "Pigrum quin immo et iners videtur sudore adquirere quod possis sanguine parare" [Tacitus, Germania, 14 {"Потом добывать то, что может быть приобретено кровью, -- леность и малодушие" (лат).} <Тацит К., О происхождении германцев и местоположении Германии // Соч., Т. 1, Л., 1969, С.360>]. Эти взгляды безмерно далеки от тех, которые господствуют в современной хозяйственной жизни. Такая противоположность взглядов выходит за пределы проблемы собственности и охватывает все наше отношение к жизни. Это противоположность между феодальным и буржуазным способами мышления. Первый подход выражен в романтической поэзии, красота которой восхищает нас, хотя предлагаемое ею видение жизни может увлечь нас только на миг, пока поэтическое впечатление еще свежо. [Тонкой поэтической насмешкой над романтически-ностальгической сентенцией: "Там хорошо, где нас уж нет" -- является опыт советника Кнапа из сказки Андерсена "Калоши счастья". {В этой сказке Ганса Христиана Андерсена (1805--1875) герой, идеализирующий Средневековье, очутившись чудесным образом в том времени, испытывает глубокое разочарование (Андерсен Г. Х., Сказки и истории, Т.1, Л., 1977, С. 205--235).}] Второй подход развит социальной философией либерализма в великую систему, в сооружении которой сотрудничали лучшие умы всех времен. Ее величие отражено в классической литературе. В либерализме человечество приходит к осознанию сил, которые направляют его развитие. Тьма, покрывающая историческое прошлое, рассеивается. Человек начинает понимать общественную жизнь и вносит в ее развитие сознание. Феодальный подход не достиг сходного уровня построения законченной системы. Было просто невозможно домыслить до конца, до логической завершенности теорию насилия. Попытайтесь полностью реализовать, хотя бы мысленно, принцип насилия, и его антиобщественный характер будет разоблачен. Он ведет к хаосу, к войне всех против всех. Никакими ухищрениями не избежать этого. Все антилиберальные теории общества с необходимостью остаются фрагментарными или ведут к самым абсурдным заключениям. Когда они упрекают либерализм в приземленности, в пренебрежении ради мелочных забот повседневности всем высшим, они просто ломятся в открытую дверь. Ибо либерализм никогда не претендовал ни на что большее, чем быть философией повседневности. Он учит только тому, как действовать и воздерживаться от действий в земных делах. Он никогда не претендовал на то, что способен раскрыть Последнюю из Величайших Тайн Человека. Антилиберальные учения обещают все. Они обещают счастье и духовный мир, как если бы человек мог получить благословение свыше. Лишь одно вполне определенно -- в их идеальной общественной системе производство материальных благ уменьшится очень основательно. Что же касается ценности того, что предлагается взамен, мнения, по крайней мере, разделяются [Wiese, Der Liberalismus in Vergangenheit und Zukunft, Berlin, 1917, S. 58 ff.]. Последним прибежищем критиков либерального идеала общества является попытка разрушить этот идеал его же собственным оружием. Они стремятся доказать, что он служит и намерен служить интересам одного-единственного класса; что мир, к которому стремится либерализм, благоприятен только для ограниченного круга и вредоносен для всех остальных. Даже общественный порядок, достигаемый в современном конституционном государстве, основан на насилии. Его претензия на то, что в основании этого порядка -- свободные договорные отношения, которые в реальности, говорят они, представляют собой только условия мира, продиктованные победителями побежденным, и условия этого мира действительны лишь до тех пор, пока сохраняется их установившая власть, и не дольше. Вся собственность основана на насилии и поддерживается насилием. Свободные рабочие либерального общества суть то же, что несвободные феодальной эпохи. Предприниматель эксплуатирует их так же, как феодальный властитель -- своих крепостных, как плантатор -- своих рабов. Что такие и им подобные возражения возможны и что им верят, показывает, сколь низко упало понимание либеральных теорий. Но эти возражения никоим образом не возмещают отсутствие у антилиберальных движений систематизированных теорий. Либеральная концепция общественной жизни создала экономическую систему, основанную на принципах разделения труда. Наиболее типичным выражением экономики обмена являются городские поселения, которые возможны только в такой экономике. В городах учение либерализма было развито в законченную систему, и здесь оно нашло большинство своих сторонников. Но чем сильнее и быстрее возрастало богатство, чем многочисленнее были переселенцы из деревни в город, тем ожесточеннее были нападки на либерализм под знаменем принципа насилия. Переселенцы быстро находили свое место в городской жизни, они быстро усваивали (чисто внешне) городские манеры и мнения, но еще долго оставались чужими городскому образу мыслей. Социальную философию нельзя усвоить столь же легко, как умение носить костюм. Она должна быть заработана -- оплачена усилием мысли. Потому то мы и обнаруживаем в истории опять и опять, что эпохи роста и распространения мира либеральной мысли, когда богатство увеличивается вместе с развитием разделения труда, перемежаются эпохами, в которые господствует принцип насилия, а богатство сокращается из-за упадка системы разделения труда. Рост городов и городской жизни был чрезмерно быстрым. Этот рост был скорее экстенсивным, чем интенсивным. Новые жители городов изменились только поверхностно, они не сменили строй мысли, не стали настоящими гражданами. Об эту скалу разбивались все эпохи культуры, исполненные буржуазным духом либерализма; на этом же подводном камне, похоже, разлетится и наша собственная буржуазная культура, наиболее поразительная в человеческой истории. Более опасными, чем варвары, штурмующие стены извне, являются находящиеся внутри ограды мнимые горожане -- горожане по внешнему виду, но не по своему мышлению. Недавние поколения были свидетелями мощного возрождения принципа насилия. Современный империализм, доведший мир до мировой войны со всеми ее ужасными последствиями, развивает старые идеи защитников принципа насилия, лишь слегка их замаскировав. Но, конечно же, империализм не в состоянии выдвинуть в противоположность либеральной теории собственную завершенную систему. Несомненно, что теория, согласно которой борьба есть движущая сила роста общества, никоим образом не может вылиться в теорию сотрудничества, а такой должна быть любая теория общества. Теория современного империализма характеризуется использованием некоторых естественнонаучных выражений, таких, как "учение о борьбе за существование" и "концепция расы". С этим багажом оказалось возможным отчеканить множество лозунгов, доказавших свою пропагандистскую эффективность, но ничего более. Все эти идеи, выставляемые современным империализмом, давным-давно были разоблачены либералами как ложные доктрины. Один из империалистических аргументов, возможно, сильнейший, вытекает из полного непонимания существа собственности на средства производства в обществе с разделением труда. Важнейшей задачей считается обеспечение нации собственными шахтами, собственными источниками сырья, собственным флотом и портами. Ясно, что этот аргумент порожден представлением, что натуральная собственность на эти средства производства неделима и что она приносит выгоду только тем, кто физически владеет ею. И не осознается, что такой взгляд ведет логически к социалистическому учению о характере собственности на средства производства. Ибо если плохо то, что Германия не имеет собственных, германских хлопковых плантаций, то почему терпимо положение, когда каждый отдельный немец не имеет собственной шахты, собственной прядильной фабрики? Может ли немец счесть Лотарингские железные копи более своими в том случае, когда их владелец -- немец, чем когда их владелец -- гражданин Франции? Таким образом, империалисты поют в унисон с социалистами, критикуя буржуазную собственность. Но социалисты хоть пытались создать завершенную систему будущего общественного порядка, а империалисты и этого сделать не могли. 4. Коллективная собственность на средства производства Самые ранние попытки реформировать систему отношений собственности и владения могут быть вполне корректно описаны как попытки достичь наибольшего возможного равенства в распределении богатства независимо от того, провозглашались ли при этом цели общественной пользы или социальной справедливости. Каждый должен владеть определенным минимумом, и никто не должен иметь больше определенного максимума. Каждый должен владеть примерно тем же количеством -- такова была, грубо говоря, цель. И средства ее достижения были всегда одинаковы. Обычно предлагалась конфискация всей или части собственности с последующим перераспределением. Мир, населенный только самодостаточными крестьянами и небольшим числом ремесленников, -- таков был идеал общества. Но сегодня нам нет нужды тратить время на все эти предложения. Они стали нереализуемыми в экономике с разделением труда. Железная дорога, прокатный стан, машиностроительный завод неделимы. Если бы эти идеи были реализованы века или тысячелетия назад, мы до сих пор прозябали бы на той же стадии развития, если бы, конечно, не вернулись к состоянию, трудноотличимому от полной дикости. Земля смогла бы прокормить только малую долю тех множеств людей, которых она питает ныне, и каждый был бы много хуже обеспечен, чем сейчас, хуже, чем даже самые бедные граждане современного промышленного государства. Вся наша цивилизация выжила благодаря тому, что человек всегда справлялся с натиском перераспределителей. Но идея перераспределения до сих пор очень популярна, даже в промышленных странах. В странах с господствующим сельским хозяйством эта доктрина приняла не вполне подходящее название аграрного социализма и является конечной целью и содержанием движений за социальные реформы. Эта идея была главной опорой великой русской революции и временно, против их воли, обратила вождей революции -- прирожденных марксистов -- в своих поборников. Она может победить и в остальных странах мира и в короткое время разрушить культуру, которая создавалась тысячелетиями. Однако повторим: здесь не стоит тратить слов критики и двух мнений быть не может. Вряд ли сегодня нужно доказывать, что невозможно на основе "коммунистического владения землей" создать социальную организацию, способную прокормить сотни миллионов белых людей. Наивный фанатизм борцов за уравнительное распределение уже давно подпитывается новым социальным идеалом, и сегодня не распределение, но общая собственность -- лозунг социализма. Устранить частную собственность на средства производства, сделать средства производства собственностью общества -- такова общая цель социализма. В своей наиболее сильной и чистой форме социалистическая идея более не имеет ничего общего с идеей перераспределения. В равной степени она далека от смутной концепции общей собственности на средства потребления. Теперешняя цель -- сделать для каждого возможным достойное существование. Идея не столь простодушна, чтобы стремиться достичь цели разрушением общественной системы, основанной на разделении труда. Конечно, неприязнь к рынку, свойственная энтузиастам перераспределения, сохраняется; но социализм ныне стремится ликвидировать торговлю иным путем, а не отказом от системы разделения труда и возвратом к автаркии самодостаточных семейных хозяйств либо к примитивному обмену между самодостаточными сельскохозяйственными районами. Такая социалистическая идея не могла возникнуть до того, как частная собственность на средства производства приобрела свойства, характерные для общества с разделением труда. Взаимосвязи отдельных производительных единиц сначала должны достичь той степени, когда производство для удовлетворения чужих потребностей является правилом, прежде чем идея общей собственности на средства производства сможет принять определенную форму. Социалистические идеи не могли обрести полной ясности до тех пор, пока социальная философия либерализма не раскрыла характер общественного производства. В этом смысле, и ни в каком другом, социализм можно рассматривать как следствие либеральной философии. Как бы мы ни оценивали ее полезности или реализуемости, следует признать, что идея социализма в одно и то же время и грандиозна, и проста. Даже самые убежденные противники не могут отрицать детальной проработанности идеи. Можно сказать, что это одно из самых притязательных творений человеческого духа. Попытка воздвигнуть общество на новой основе, одновременно порывая со всеми традиционными формами общественной организации, изобрести новое устройство мира и предвидеть формы для всех видов человеческой деятельности будущего -- это затея настолько величественная, настолько отважная, что она вполне заслуженно вызвала величайшее восхищение. Мы должны победить социализм, мы не можем беззаботно от него отмахнуться, если мы намерены спасти мир от нового варварства. 5. Теории эволюции собственности Старый трюк модернизаторов в политике -- описывать то, что они стремятся реализовать, как древнее и естественное, как нечто, существовавшее изначально и утраченное только в силу ошибок исторического развития. Человек, утверждают они, должен вернуться к прежнему состоянию вещей и воскресить Золотой век. Естественное право, например, трактовало права, требуемые им для индивидуумов, как прирожденные, неотъемлемые, даваемые Природой. Таким образом, разговор шел не о новизне, а о восстановлении "вечных прав, сияющих миру, как звезды небесные -- неугасимо и нерушимо". Точно так же возникла романтическая Утопия совместной собственности -- как установления седой древности. Почти все народы знакомы с этой мечтой. Древнюю римскую легенду о Золотом веке Сатурна пылко воспели Вергилий, Овидий, Тибулл, восхвалял Сенека [Poehlmann, Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt, 2 Aufl., Munchen, 1912, Bd. II, S. 577 ff.]. {По верованиям римлян, жизнь человечества проходит через ряд кругов, каждый из которых находится под покровительством определенного божества. Золотой век соотносился с кругом Сатурна -- доброго и справедливого бога урожая и земледельцев. Публий Вергилий Марон (70--19 до н. э.) -- римский поэт. О Золотом веке он писал в "Буколиках", Эколога IV (Вергилий, Буколики. Георгики. Энеида., М., 1971). Публий Овидий Назон (43 до н. э. -- ок. 18 н. э.) -- римский поэт. Описание золотого века содержится в его "Метаморфозах" (Овидий, Метаморфозы, М., 1977). Тибулл Альбий (ок. 50--19 до н. э.) -- римский поэт. Упоминания о Золотом веке встречаются в его "Элегиях" (Катулл. Альбий Тибулл. Пропорций., М., 1977). Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э. -- 65 н. э.) -- римский философ. О Золотом веке см. в его "Нравственных письмах к Луцилию" (М., 1977).} Это были беззаботные, счастливые дни, когда никто не знал частной собственности и все процветали в объятиях благородной Природы [Ipsaque tellus omnia liberius nullo poscente ferebat (Virgil, Georgica, I, 127 ff.) {"Земля же плодоносила сама, добровольно, без понуждения" (лат.) (Вергилий, Буколики. Георгики. Энеида., С. 68)}]. Современный социализм, конечно, мыслит будущее не столь простодушно и по-детски, но в целом его мечты мало отличаются от фантазий граждан императорского Рима. Либеральное учение подчеркивало важную роль частной собственности на средства производства в эволюции цивилизации. Социализм мог удовлетвориться отрицанием нужды в сохранении института собственности, не отрицая в то же время его полезности в прошлом. Марксизм и сделал это, представив эпохи простого и капиталистического товарного производства как необходимые стадии развития общества. Но одновременно он присоединился к другим социалистическим школам в осуждении всех известных в истории проявлений частной собственности -- и все это с выраженным моральным неодобрением. Были некогда благие времена, когда частной собственности не существовало, и эти славные деньки вернутся вновь, когда частная собственность исчезнет. Чтобы такое понимание показалось убедительным, потребовалось свидетельство молодой науки -- экономической истории. Была выстроена теория, доказывающая древность общинного землевладения. Было заявлено, что некогда вся земля было общей собственностью всех членов племени. Изначально всем пользовались сообща. Только позднее, хотя общественная собственность еще сохранялась, поля были розданы для отдельного использования. Но при этом происходили перераспределения земли: сначала ежегодно, затем реже. Согласно этому взгляду частная собственность является сравнительно недавним установлением. Ее возникновение не вполне понятно. Но можно предположить, что она прокралась в обычай в результате упущений в перераспределении, если, конечно, не предполагать, что она возникла в результате незаконного присвоения. Отсюда было ясно, что придавать частной собственности чрезмерное значение в истории цивилизации -- ошибка. Доказывали, что сельское хозяйство развилось в условиях общинной собственности на землю с периодическими перераспределениями. Чтобы человек пахал и засевал поля, нужно только гарантировать ему собственность на урожай, а это возможно и при ежегодном переделе земли. Нам говорят, что ошибка -- возводить происхождение собственности на землю к занятию ничейной земли. Незанятая земля никогда не была бесхозной. Она всегда и везде -- как в прежние времена, так и поныне -- принадлежала государству или общине; а значит, в прежние времена, равно как и ныне, захват земельной собственности не мог иметь места [Laveleye, Das Ureigentum, Deutsch von Bucher, Leipzig, 1879, S. 514 ff. <Э. де Лавеле, Первобытная собственность, Спб., 1875, С. 364 и след.>]. С вершин новоприобретенного исторического знания оказалось возможным свысока, с сострадательным изумлением взглянуть на учение социальной философии либерализма. Людей убедили, что частная собственность оправдана только как историко-правовая категория. Она не существовала всегда и представляет собой не слишком желательное приобретение культуры, а значит, вполне может быть отброшена. Социалисты всех видов, а особенно марксисты, рьяно пропагандировали эти идеи. Они сделали писания своих любимцев популярными настолько, насколько и не снилось никаким авторам исследований по экономической истории. Но более поздние исследования отвергли предположение, что общинная собственность на землю была существенной стадией развития всех народов, что такова была исходная форма собственности ("Ureigentum"). {В середине XIX в. сформировалась так называемая общинная теория, согласно которой исходным моментом аграрной истории было общинное землевладение с коллективной крестьянской собственностью на землю. Ее создателями и последователями были Г. Маурер, Г. Мэн, М. Ковалевский и другие историки и правоведы. Общинная теория нашла своих горячих сторонников и продолжателей в К. Марксе и Ф. Энгельсе (см., например, работы Ф. Энгельса "Марка", "К истории древних германцев", "Происхождение семьи, частной собственности и государства"). В конце XIX -- начале XX в. общинная теория подверглась суровой критике со стороны Н. Д. Фюстель де Куланжа, Ф. Сибома, Р. Гильдебранда, А. Допша и других историков, отстаивавших извечность частной собственности.} Они продемонстрировали, что русская община -- "мир" -- возникла в новое время под давлением крепостничества и подушного налогообложения, что хаубергские товарищества в округе Зиген не прослеживаются ранее XVI века, что трирские Gehoferschaften возникли в XIII, а может, и в XVII или XVIII веке и что задруга южных славян была порождена введением византийской налоговой системы [Below, Probleme der Wirtschaftsgeschichte, Tubingen, 1920, S 13 ff.]. {Как установили историки, русская сельская община с периодическими уравнительными переделами земли между входящими в общину семьями сформировалась лишь в XVII -- XVIII вв. Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин и другие представители "государственной школы" историков доказывали, что община в таком виде сложилась под давлением государства, преследовавшего сугубо фискальные цели. Хаубергские товарищества -- ассоциации лесорубов, возникшие в прирейнском Вестервальде (Германия). Gehofeischaft (нем.) -- подворная земельная община, существовавшая в районе Трира (Рейнская область Германии). Каждая семья (двор), входившая в общину, имела строго определенную долю во всех видах земельных угодий, но так как участки отличались по плодородию и другим природным условиям, практиковался периодический обмен их между членами общины. Задруга -- существовавшая вплоть до конца XIX в. на землях Сербии и Хорватии семейная община. В ее сохранении из фискальных соображений были заинтересованы как правители Османской империи, которая господствовала на землях южных славян, так и правительство независимой Сербии.} Самые ранние периоды аграрной истории Германии до сих пор не вполне ясны, и в понимании важнейших вопросов этой истории еще нет единодушия. Истолкование скудной информации, которую дают Цезарь и Тацит, представляет особые трудности. {Цезарь Гай Юлий (162--44 до н.э.) -- римский полководец, политический деятель и писатель. О быте германских племен он писал в "Записках о Галльской войне" (Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, В 2 т., М., 1991). Согласно описанию Цезаря у германцев была кровнородственная община. По Тациту (полтора века спустя), германские племена жили в условиях соседской (сельской) земледельческой общины.} Но пытаясь понять их, не следует упускать из виду, что условия древней Германии, как они описаны этими авторами, примечательны изобилием пригодной для обработки земли, так что вопрос о собственности на землю был экономически малосуществен. "Superest ager" (пригодная земля в избытке) -- это основной факт для характеристики аграрных условий в Германии во времена Тацита [Germania, 26 <Тацит, Указ. соч., С. 364>]. Фактически, однако, нет нужды искать в экономической истории аргументы для опровержения доктрины "Ureigentum", ибо эта доктрина не дает оснований для отказа от частной собственности на средства производства. Когда мы вырабатываем суждение об исторических достижениях и функциях частной собственности в нынешнем и будущем экономическом устройстве, вовсе не имеет значения, предшествовала общинная собственность частной либо нет. Если бы даже удалось продемонстрировать, что общинная собственность у всех народов была исходной формой земельного права и что вся частная собственность возникла в результате незаконного присвоения, это бы еще далеко не доказывало, что рациональная организация сельского хозяйства с интенсивной эксплуатацией земли могла бы развиться вне условий частной собственности. Еще менее допустим вывод, что частная собственность может или должна быть ликвидирована. Глава II. Социализм 1. Государство и экономическая деятельность Цель социализма -- передать средства производства из частной собственности в собственность организованного общества, государства. [Термин "коммунизм" означает то же, что и "социализм". Использование этих двух слов в последние десятилетия неоднократно менялось, но всегда границей между социалистами и коммунистами оставались вопросы политической тактики. И те, и другие стремятся к обобществлению средств производства.] Социалистическое государство владеет всеми материальными факторами производства и таким образом направляет его. Для такой передачи вовсе не нужно соблюдение формальностей закона, выработанного для передачи собственности в эпоху, фундаментом которой была частная собственность на средства производства. Еще менее существенно в таком процессе соблюдение традиционной правовой терминологии. Собственность есть право распоряжаться, и когда это право распоряжаться лишается своего традиционного имени и получает от господствующего правового института новое наименование, это не имеет никакого значения для существа дела. Следует учитывать не слова, но суть вещей. Ограничение прав собственников, как и формальная передача этих прав, представляет собой способ социализации. Если государство шаг за шагом отнимает у собственника право распоряжаться, распространяя свое влияние на производство, если его возможности определять направление развития производства и характер производимой продукции все возрастают, тогда собственнику не остается ничего, кроме пустого имени "собственник", а сама собственность переходит в руки государства. Люди зачастую не могут понять фундаментального различия между идеями либерализма и анархизма. Анархизм отвергает все принуждающие общественные организации и отказывается от насилия как социальной технологии. Фактически он стремится к упразднению государства и правопорядка, поскольку верит, что общество без всего этого будет жить лучше. Он не боится анархического беспорядка, поскольку верит, что в отсутствие принуждения люди объединятся для общественного сотрудничества и будут вести себя в соответствии с требованиями социальной жизни. Анархизм как таковой не является ни либеральной, ни социалистической доктриной: он просто лежит в иной плоскости. Тот, кто отрицает основу анархизма, кто считает иллюзией, что ныне или в будущем станет возможным без принуждения со стороны правопорядка объединить людей для мирного сотрудничества, тот -- будь он либерал или социалист -- отвергает идеал анархизма. Во всех либеральных и социалистических теориях, основанных на строгой логической связи идей, системы строились с должным учетом насилия, полностью отвергая анархизм. И либерализм, и социализм признают необходимость правового порядка, хотя расходятся в понимании и определении границ этого понятия. Либерализм, ограничивая сферу государственной активности, не оспаривает потребности в правовом порядке и при этом вовсе не считает государство злом, хотя и необходимым. Либеральное понимание проблем государства определяется отношением к проблеме собственности, а вовсе не отвращением к "персоне" государства. Поскольку либерализм стремится к торжеству частной собственности на средства производства, он должен по чисто логическим причинам отвергать все, что противоречит этому идеалу. Что же касается социализма, то с тех пор, как он в основных вопросах отделился от анархизма, он должен с необходимостью стремиться к расширению сферы принудительного государственного контроля, ибо его явной целью является устранение "анархии производства". Какая уж там борьба с государством и насилием, если социализм стремится распространить правительственное влияние на те области, которые либерализм оставил бы вне контроля. Социалистические авторы, особенно те из них, кто восхваляет социализм по этическим причинам, любят заявлять, что в социалистическом обществе первейшей целью государства будет всеобщее благосостояние, в то время как либерализм учитывает интересы только одного класса. Судить о достоинстве либеральной и социалистической моделей организации общества следует по достижениям обеих систем. Но можно сразу отвергнуть утверждение, что только социализм ставит целью обеспечение общего благосостояния. Либерализм борется за частную собственность на средства производства не из любви к собственникам. Либеральная экономическая система более производительна, чем социалистическая, и избыток достается не только собственникам. Согласно либерализму преодоление заблуждений социализма в интересах не только богатых. Даже беднейшие пострадают от социализма не меньше других. К такому утверждению можно относиться по-разному, но в любом случае было бы неверно приписывать либерализму преследование интересов узкого слоя людей. Социализм и либерализм различаются фактически не своими целями, а средствами их достижения. 2. "Основные права" в социалистической теории Либеральная философия государства была обобщена в ряде утверждений, сформулированных как требования естественного права. Это Права Человека и Гражданина, которые выражали существо освободительных войн в XVIII и XIX столетиях. Они закреплены в конституционных законах, составленных под влиянием политических движений эпохи. Но даже сторонникам либерализма следовало бы спросить себя: подходящее ли это для них место, ибо по форме и стилю изложения эти утверждения являются не столько правовыми положениями, которые составляют содержание законов, предназначенных для практического применения, сколько политической программой законодательной и административной деятельности. Во всяком случае, совершенно недостаточно включить их со всеми почестями в основные законы государств и конституции; их дух должен пронизывать собой все государство. Гражданин Австрии мало выигрывал от того факта, что основной закон государства давал ему право "свободно выражать свое мнение словом, в письме, в печати или в графических изображениях в рамках законных границ". Эти "законные границы" препятствуют свободному выражению мнений так же основательно, как если бы основной закон никогда не существовал. Англия не знает основного права на свободное выражение мнения, однако в ней слово и пресса действительно свободны, поскольку дух, выражающий себя в принципе свободы мысли, пронизывает все английские законы. Подражая этим политическим основным правам, некоторые антилиберальные авторы попытались разработать кодекс основных экономических прав. Их цель при этом двойственна: с одной стороны, они хотят показать неудовлетворительность общественного устройства, которое даже не гарантирует эти предполагаемые естественными права человека; с другой стороны, они хотят создать несколько легко запоминаемых, эффектных лозунгов для пропаганды своих идей. При этом они были далеки от мысли, что достаточно юридически зафиксировать эти основные права, чтобы возник общественный порядок, соответствующий идеалам. Большинство авторов, особенно позднейших, были убеждены, что то, к чему они стремятся, может быть достигнуто только на пути обобществления средств производства. Концепция основных экономических прав была разработана, лишь чтобы показать, каким требованиям должна удовлетворять социальная система. То есть это скорее критика, чем программа. Рассматриваемая с такой точки зрения, эта концепция позволяет нам понять, что (по мнению его сторонников) социализм должен обеспечить. Согласно Антону Менгеру, социализм обычно предполагает три основных экономических права: право на полный продукт труда; право на существование; право на труд [Anton Menger, Das Recht auf den vollen Arbeitsertag in geschichtlicher Darstellung, 4 Aufl., Stuttgart und Berlin, 1910, S. 6 <Менгер А., Завоевание рабочим его прав. Право на полный продукт труда в историческом изложении., Спб, 1906, С. 9>]. {Менгер Антон (1841--1906) -- австрийский юрист, социолог и историк социалистических идей. Социалист-эволюционист А. Менгер был известен в конце XIX -- начале XX в. как противник марксистского социализма и социал-демократии.} Всякое производство требует сотрудничества материальных и человеческого факторов производства: это целенаправленный союз земли, капитала и труда. Нельзя определить физический вклад каждого из этих факторов в результат производства. Какую часть стоимости произведенного продукта следует приписать отдельным факторам? Это вопрос, на который ежедневно и ежечасно отвечают покупатели и продавцы на рынке, хотя научное объяснение этого процесса было получено только в недавние годы и пока еще далеко не достигнута полная ясность. Рыночные цены на все факторы производства фактически приписывают каждому из них вес, соответствующий его участию в производстве. Через цену каждый фактор получает оценку своего участия в конечном продукте. В заработной плате работник получает полный продукт своего труда. Таким образом, в свете субъективной теории ценности соответствующее требование социализма представляется вполне нелепым. Но для среднего человека это не так. Привычные обороты речи подразумевают, что ценность создается только трудом. Доверяющие "здравому смыслу" люди обречены видеть в требовании о ликвидации частной собственности на средства производства призыв к тому, чтобы работник получал полный продукт своего труда. Сначала это требование кажется чисто негативным -- исключить все доходы, не основанные на труде. Но как только пытаются сконструировать на этом принципе систему, возникают непреодолимые препятствия, трудности, вытекающие из несостоятельной теории ценности, на которой базируется право на полный продукт труда. Все такие системы потерпели крушение именно на этом. Их авторы, в конце концов, бывали вынуждены признать, что то, чего они желали, было не чем иным, как упразднением всех доходов, не основанных на труде, и что только обобществление средств производства позволяет достичь этого. От права на полный продукт труда, которое десятилетиями занимало умы людей, не осталось ничего, кроме лозунга (пропагандистски весьма эффектного, конечно) требующего упразднения всех "незаработанных", нетрудовых доходов. Право на существование может быть определено по разному. Если в этом видеть требование людей, лишенных средств и неспособных к труду, не имеющих родственников, которые могли бы о них позаботиться, т. е. требование об обеспечении их средствами к существованию, тогда право на существование представляет собой безвредное установление, реализованное в большинстве общин столетия назад. Конечно, практическое воплощение этого принципа может нуждаться в совершенствовании, ибо, возникнув из практики благотворительного попечительства о бедняках, соответствующие установления не дают нуждающимся признаваемых законом прав. Однако социалисты под правом на существование понимают нечто иное. Они определяют существо дела так, что "всякий член общества может требовать, чтобы ему были предоставлены вещественные блага и услуги, необходимые для поддержания его существования, по мере имеющихся в наличии средств, прежде чем будут удовлетворены менее насущные нужды других" [Anton Menger, Das Recht auf den vollen Arbeitsertag in geschichtlicher Darstellung, 4 Aufl., Stuttgart und Berlin, 1910, S. 6 <Менгер А., Завоевание рабочим его прав. Право на полный продукт труда в историческом изложении., Спб, 1906, С. 9>, S. 9 <там же, С. 10>]. Туманность концепции "поддержания собственного существования", равно как и невозможность объективного определения и сравнения настоятельности нужд разных людей, превращает ее в конечном итоге в требование о возможно равном распределении потребительских благ. Одна из нередких формулировок этой концепции -- "никто не должен испытывать лишений, в то время когда другие живут в излишествах", -- выражает намерение еще яснее. Ясно, что это требование равенства может быть удовлетворено (в негативном плане) только после обобществления всех средств производства и перехода к распределению государством всех результатов производства. Может ли при этом быть достигнута позитивная цель -- реальная обеспеченность каждого, это другая проблема, которой защитники права на существование вряд ли вообще занимались. Они провозглашали, что сама Природа предоставляет для всех достаточные средства к жизни и что только из-за несправедливых общественных установлений большая часть человечества бедствует; если лишить богатых всего, что им позволено потреблять сверх всякой "необходимости", каждый получит достаточно для достойного уровня жизни. Только под влиянием критики, исходившей из Мальтусова закона народонаселения [Malthus, An Essay on the Principle of Population, 5th. ed., London, 1817, Vol. 3, P. 154 ff. <Мальтус Т., Опыт закона о народонаселении, М., 1895, С. 10 и след.>], социалистическая доктрина была поправлена. {Английский экономист Томас Роберт Мальтус (1766--1834) сформулировал в 1798 г. "естественный закон народонаселения", согласно которому население имеет тенденцию размножаться в геометрической прогрессии, тогда как средства существования могут расти лишь в арифметической прогрессии, что порождает нищету масс.} Социалисты признали, что в условиях несоциалистического способа производства объем производства недостаточен для изобильного снабжения каждого. Но при этом они утверждают, что социализм в такой громадной степени увеличит производительность труда, что окажется возможным создание земного рая для неограниченного по численности населения. Даже Маркс, в других случаях весьма осторожный, заявил, что социалистическое общество сделает мерой распределения потребности каждого [Marx, Zur Kritik des Sozialdemokratischen Parteiprogramm von Gotha, heig. Kreibich, Peichenberg, 1920, S. 17 <Маркс К., Критика Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т.19, С.20>]. Ясно, по крайней мере, следующее: признание права на существование в том смысле, какой придают ему теоретики социализма, может быть достигнуто только в результате обобществления средств производства. Антон Менгер, правда, высказался в том смысле, что частная собственность и право на существование вполне могут сосуществовать. В этом случае требования граждан государства на средства, необходимые им для существования, пришлось бы рассматривать как нечто подобное закладной, подлежащей удовлетворению за счет национального дохода прежде, чем привилегированные граждане получили бы свой нетрудовой доход. Но даже ему пришлось признать, что в случае полной реализации права на существование соответствующие расходы поглотят столь большую часть нетрудового дохода и столь сильно обкорнают частную собственность, что вскоре вся собственность окажется в коллективном владении [Anton Menger, Op. cit., S.10 <Менгер А., Указ соч., С. 11>]. Если бы Менгер сумел понять, что право на существование с необходимостью порождает право на равное распределение потребительских благ, он не стал бы говорить о его совместимости с частной собственностью на средства производства. Право на существование очень тесно связано с правом на труд [Ibid., S. 10 f. <там же, С. 11--12>; см. также Singer-Sieghart, Das Recht auf arbeit in geschichtlicher Darstdlung, Jena, 1895. S. 1 f; Mutasoff, Zur Geschichte des Rechts auf Arbeit mit besonderer Rucksicht auf Charles Fourier, Bern, 1897. S. 4 f.]. В основе идеи -- не столько право на труд, сколько обязанность трудиться. Законы, которые предоставляют нетрудоспособным возможность претендовать на поддержку, тем самым лишают такого права работоспособных. Они могут претендовать только на предоставление рабочего места. Естественно, что социалистические авторы и следовавшие за ними социалистические политики прежних времен имели довольно свободное представление об этом понятии. Они превратили его -- более или менее явно -- в требование на получение работы, соответствующей склонностям и способностям рабочего и обеспечивающей при этом достаточную заработную плату. В основе права на труд лежит та же идея, что выразилась в праве на существование: в "естественных" условиях, -- которые нам следует считать существовавшими до и вне рамок общественного порядка, базирующегося на частной собственности, и которые будут восстановлены социалистическими конституциями после ликвидации частной собственности, -- каждый человек должен быть способен добыть собственным трудом достаточные средства к существованию. Буржуазное общество, разрушившее этот разумно устроенный мир, обязано возместить пострадавшим то, что они утратили. Эквивалентом утраченного и должно выступать право на труд. Мы опять сталкиваемся со старой иллюзией средств к существованию, которые предположительно должна давать Природа независимо от уровня исторического развития общества. Но дело-то в том, что Природа вовсе не знает и не предоставляет никаких прав. Поскольку желания человека практически беспредельны, а Природа сама по себе скудна, человек вынужден заниматься хозяйством. Эта хозяйственная деятельность предполагает социальное сотрудничество; истоки сотрудничества -- в понимании того, что оно увеличивает производительность труда и повышает уровень жизни. Заимствованная в наиболее наивных теориях естественного права идея, что в обществе человеку приходится хуже, чем в "более свободном и примитивном естественном состоянии", и что общество должно, так сказать, купить его терпение в обмен на специальные права, -- краеугольный камень построений, возводимых поборниками права на труд и права на существование. Когда производство отлично сбалансировано, безработицы не бывает. Безработица есть следствие экономических изменений, и там, где развитие хозяйства не сдерживается вмешательством властей и профсоюзов, она возникает только как переходное явление, а изменения заработной платы обычно носят компенсаторный характер. Соответствующие институты, например биржи труда, представляющие собой просто развитие экономического механизма свободного рынка, где индивидуум свободен выбирать и изменять профессию и место работы, способны сократить продолжительность отдельных случаев безработицы настолько, что она перестанет восприниматься как серьезное бедствие [см. мои работы: (Mises L.) Kritik des Interventionismus, Jena, 1929, S. 12 ff.; Die Ursachen der Wirtschaltskrise, Tubingen, 1931, S. 15 ff.]. Но требование, чтобы каждый гражданин имел право на привычную ему профессию и заработок не ниже, чем у других профессий, которые пользуются большим спросом на рынке труда, абсолютно несостоятельно. Организация производства нуждается в средствах побуждения к смене профессий. В социалистической формулировке право на труд совершенно нереализуемо, и не только в обществе, основанном на частной собственности на средства производства. Даже социалистическое общество не может гарантировать рабочему право на занятость только в выбранной профессии; оно также будет нуждаться в способах перемещения рабочих туда, где они нужнее. Три основных экономических права -- а число их легко увеличить -- принадлежат к прошедшей эпохе движения за социальные реформы. Они сохранили сегодня хотя и немалое, но чисто пропагандистское значение. Их место заняло требование обобществления средств производства. 3. Коллективизм и социализм Противоположность между реализмом и номинализмом, пронизывающая всю историю человеческой мысли со времен Платона и Аристотеля, проявилась также в области социальной философии [Pribram, Die Entstehung der individualistischen Sozialphilosophie, Leipzig, 1912, S. 3 ff.]. {Реализм и номинализм -- два противоборствующих течения в европейской средневековой философии. Номиналисты утверждали, что существуют лишь единичные вещи, а общие понятия (универсалии) -- это лишь nomina (имена, обозначения), выступающие в сознании людей. Реалисты считали, что общие понятия существуют реально, а не только в мышлении. Спор о реальном существовании универсалий восходит к Древней Греции: Платон (427--347 до н. э.) считал, что идеи существуют вне конкретных вещей и образуют особый идеальный мир; Аристотель (384--322 до н. э.) утверждал, что общее существует только в единичных вещах, будучи его формой.} Различие между отношением коллективизма и индивидуализма к проблеме общественных объединений такое же, как между отношением универсализма и номинализма к проблеме понятия вида. {Универсализм здесь -- синоним реализма как признания реального бытия универсалий. Проблема универсалий была сформулирована древнегреческим философом Порфирием (234--301 (?)) как проблема "вида": существуют ли виды и роды вещей наряду с единичными вещами? По Мизесу, признание особых целей и интересов коллективов, отличных от целей и интересов индивидуумов, равносильно признанию реального бытия вида наряду с единичными вещами.} В сфере социальных наук эта противоположность приобретает высочайшую важность, так же как в философии отношение к идее Бога получило значение, далеко выходящее за пределы научного исследования. Это -- политическая важность. Существующие поныне и не желающие сдаваться структуры власти находят в философии коллективизма оружие для защиты своих прав. И даже здесь номинализм проявляет себя как беспокойная наступательная сила. Как в области философии он разрушает старые системы метафизического умозрения, так и здесь он взрывает метафизические схемы социологического коллективизма. Политическое злоупотребление тем, что первоначально выступало в телеологическом обличье лишь как противоположность представлений в теории познания, становится совершенно отчетливым, когда дело касается этики и политики. Проблема здесь формулируется иначе, чем в области чистой философии. Вопрос звучит так: что должно быть целью -- личное или общее? [Так формулирует противоположность индивидуального и социального принципов Дитцель (см его статью Individualismus в Handworterbuch der Staatwissenschaften, 3 Aufl, В. 5, S. 590). Похожий подход у Шпенглера (Spengler, Preussentun und Sozialismus, Munchen, 1920, S. 14). {Дитцель Генрих (1857--1935) -- немецкий экономист. Шпенглер Освальд (1880--1936) -- немецкий философ, культуролог и историк.}] Такое противопоставление целей индивида целям социального целого можно снять, только пожертвовав чем-то одним в пользу другого. Спор о реальности или номинальности понятий превращается в спор об иерархии целей. И здесь заново возникает трудность для коллективизма. Поскольку наличествуют разные социальные collectiva {collectiva -- совокупности людей, объединенных общим делом, интересом и т. п. (лат.)} цели которых представляются противоположными в той же степени, что и цели индивидуумов, противостоящих этим collectiva этот конфликт интересов должен быть разрешен. На самом деле практический коллективизм не слишком беспокоится об этом. Он ощущает себя только апологетом правящих классов и в качестве научной полиции защищает тех, кому в данный момент принадлежит власть, с не меньшим рвением, чем политическая охранка. Индивидуалистическая социальная философия эпохи Просвещения по-своему обошлась с противоположностью между индивидуализмом и коллективизмом. Она называется индивидуалистической, поскольку ее первой задачей было сокрушить идеи правящего коллективизма, чтобы расчистить путь для последующей социальной философии. Но при этом разбитый идол коллективизма не был заменен культом индивида. Положив в основу социологической мысли доктрину гармонии интересов, индивидуалистическая социальная философия создала современную науку об обществе, доказывая при этом, что конфликта интересов, вокруг которого было столько стычек, в действительности нет. Ибо общество вообще может существовать только при том условии, что в нем индивид найдет поддержку для своего Я и своей собственной воли. Коллективистское движение современности черпает свою силу не в скрытых потребностях современной научной мысли, но в политической воле эпохи, тяготеющей к романтизму и мистицизму. Духовные движения представляют собой восстание мысли против инерции, бунт немногих против множества. Это бунт тех, кто благодаря духовной силе всего сильнее в одиночестве, против тех, кто может выразить себя лишь заодно с массой, с толпой и кто имеет значение только в силу своей многочисленности. Коллективизм -- это противостояние, это оружие всех тех, кто стремится убить разум и мысль. Потому-то коллективизм воздвигает "нового кумира", самого холодного из всех "холодных чудовищ" -- государство [Nietzche, Also Sprach Zarathustra, Werke, Kronersche Klassikerausgabe, VI Bd., S. 69 <Ницше Ф., Так говорил Заратустра // Соч.: В 2 т., Т. 2, М.: Мысль, 1980, С. 35>]. Превознося это мистическое существо и превращая его в своего рода божество, разукрашивая его всеми экстравагантными совершенствами и очищая от всякой грязи [L'Etat etant concu comme un etre ideal, on le pare de toutes les quualites que l'on reve et on le depouille de toutes les faiblesses que l'on halt <Государство, превознесенное как идеальное бытие, наделяют всеми совершенствами нашей мечты и освобождают от всего, что нам ненавистно> (P. Leroy-Beaulieu, L'Etat moderne et ses fonctions, 3d ed., Paris, 1900, P. 11); см. также Bamberger, Deutschland und der Sozialismus, Leipzig, 1878, S. 86 f.], выражая готовность все пожертвовать на его алтарь, коллективизм сознательно стремится порвать все нити, связывающие социологическую и естественнонаучную мысль. Это особенно явно у тех мыслителей, которые настойчивой и острой критикой немало поработали над освобождением естествознания от всех следов телеологии {телеология -- учение о том, что развитие каких-либо явлений обусловлено не объективными причинами, а заранее предустановленной целью}, но в то же время в сфере познания общества не только сохраняли традиционные идеи и приемы телеологического мышления, но даже, стремясь оправдать их, перекрывали для социологии все пути к свободе мысли, которая уже стала к тому времени достоянием естественных наук. Кантовская философия природы не сохраняет места для какого-либо бога или руководителя мироздания, но историю она рассматривает, как "выполнение тайного плана природы", направленного на создание совершенного внутренне и внешне государственного устройства как единственного условия развития всего заложенного природой в человечество [Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Absicht // Samtliche Werke, Inselausgabe, Bd. I, Leipzig, 1912, S. 235 <Кант И., Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Собр. соч., Т.6, М., 1966, С. 18--19>]. У Канта с особенной ясностью видно, что современный коллективизм не имеет никакой нужды в старом реализме понятий, ибо, возникший из политических, а не философских потребностей, он занимает особую позицию -- вне науки и она не может быть поколеблена никакими атаками теории познания. Во второй части своей книги "Идеи к философии истории человечества" Гердер {Гердер Иоганн Готтфрид (1744--1803) -- немецкий философ, идеолог Просвещения; в молодости был учеником И. Канта, а в последний период своей жизни вел резкую полемику с кантианством.} с ожесточением нападает на критическую философию Канта, которая представляется ему "аверроэсовским" гипостазированием общего. {Аверроэс -- латинизированное имя Ибн Рушда (1126--1189), арабского философа, комментатора Аристотеля. В учении Аверроэса нашло отражение гипостазирование -- представление о том, что общие понятия, идеи, свойства обладают самостоятельным бытием наряду с конкретным вещественным миром.} Всякий утверждающий, что человеческий род, а не индивид, есть субъект образования и воспитания, не осознает, что "род" вид -- это только всеобщие понятия, и нужно, чтобы они воплощены были в конкретных индивидах". Если бы кто-либо приписал этим общим понятиям совершенную степень гуманности, культуры и просвещенности, составляющих понятие идеала, он при этом "ничего не сказал бы о подлинной истории человеческого рода, как ничего я не скажу, говоря вообще о животности, каменности, железности и наделяя целое самыми великолепными, но противоречащими друг другу в конкретных индивидах свойствами" [Herder, Ideen zu etner Philosophie der Geschichte der Menschheit // Samtliche Werke, herg. Suphan, Bd. XIII, Berlin, 1887, S. 345 f. <Гердер И., Идеи к философии истории человечества, М., 1977, С. 229 и след.>]. В своем ответе на это Кант завершает разрыв между этико-политическим коллективизмом и философским реализмом понятий. "Тот, кто говорит: "Отдельная лошадь безрога, а лошади как вид имеют рога", -- тот говорит совершеннейшую чепуху. Ибо род есть не что иное, как признак, которым должны обладать все его индивиды. Но если выражение "род человеческий" означает -- а, в общем, так оно и есть -- ряд поколений, идущих в бесконечность (неопределенность), и предполагается, что этот ряд непрерывно все ближе к предопределенной цели, движущейся со своей стороны вместе с ним, тогда вовсе не будет противоречия в утверждении, что в каждой части своей он асимптотически приближается к цели {в математике асимптотическим называется неограниченное приближение точек некоторой кривой к прямой линии по мере того, как эти точки удаляются в бесконечность} и только как целое достигает ее, другими словами, что не одно звено во всех поколениях человеческого рода, но только род в целом полностью исполняет свое предназначение. Математики могут разъяснить это, философ же должен заявить: предназначение человеческого рода в целом есть непрерывный прогресс, и завершение его есть просто идея -- голая, но по намерениям полезная идея цели, -- к которой мы согласно плану Провидения, должны направлять наши усилия" [Kant, Rezension zum zweiten Teil von Herders Ideen zur Fhilosophic der Geschiche der Menschheit // Werke, I Bd., S. 267; см. также Cassirer, Freiheit und Form, Berlin, 1916, S. 504 ff.]. Здесь открыто признается телеологический характер коллективизма и раскрывается непреодолимая пропасть между ним и методами чистого познания. Познание скрытых намерений природы лежит вне человеческого опыта, и наша мысль не дает нам ничего, что бы позволило сделать заключение, каковы ее цели и существуют ли они вообще. Наблюдаемое нами поведение отдельных людей и целых социальных систем не дает никаких оснований для предположений. Мы не в силах установить никаких логических связей между опытом и тем, что мы можем или хотим предположить. Нам приходится верить (поскольку это невозможно доказать), что вопреки собственной воле человек делает то, что предустановлено природой, которая лучше знает, что во благо человечеству, но не индивиду [Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte..., S. 228 <Кант И., Идея всеобщей истории..., С. 9>]. Это не тот подход, который свойствен науке. Факт, что коллективизм нельзя обосновать научной необходимостью. Он объясняется только нуждами политики. В силу этого он не останавливается, как это делает понятийный реализм, на утверждении реального существования общественных объединений, которых он почитает живыми организмами в полном смысле этого слова, но идеализирует и обожествляет. Гирке объявляет вполне открыто и неприкрашенно, что следует крепко держаться за "идею реального единства общества", потому что только это одно оправдывает требование, чтобы индивид отдавал силы и жизнь народу и государству [Gierke, Des Wesen der menschlichen Verbande, Leipzig, 1902, S. 34 f.]. {Гирке Отто Фридрих (1841--1921) -- германский юрист, историк права. В истории он видел смену различных форм общности людей. Государство, по его мнению, не институт, а общность, объединяющая и господствующих, и подвластных им.} Что коллективизм есть не что иное, как "прикрытие тирании", сказал уже Лессинг ["Ernst und Falk", Gesprache fur Freimaurer // Werke, Bd. Stuttgart, 1873, S. 80]. {Лессинг Готхольд Эфраим (1729--1781) -- немецкий писатель-просветитель, классик национальной литературы.} Если бы противоречие между общим интересом
целого и отдельным интересом индивидуума
действительно существовало, сотрудничество
людей в обществе было бы невозможным.
Естественное взаимодействие людей представляло
бы собой войну всех против всех. Мир и взаимная
терпимость были бы невозможны, а вместо этого
были бы только временные перемирия, длящиеся не
дольше, чем это нужно одной из сторон. Индивид был
бы готов к постоянному бунту против всего и всех,
подобно непрекращающейся войне с хищниками и
бациллами. Коллективистское понимание истории --
образцово асоциальное -- не может вообразить
иного способа возникновения социальных
институтов, кроме как через вмешательство
"миростроителя", платоновского Демиурга Наука об обществе начинается с преодоления этого дуализма. Поняв, что интересы отдельных людей внутри общества совместимы, и что индивиды и община не враждебны друг другу, можно понять и социальные установления, не призывая на помощь богов и героев. Мы можем распрощаться с Демиургом, который принуждает человека жить в коллективе, как только осознаем, что общественный союз дает человеку больше, чем требует взамен. Даже не предполагая "скрытого плана природы", мы можем понять развитие в направлении к более интегрированным формам общества, когда видим, что каждый шаг на этом пути приносит благо самим шагающим, а не только их отдаленным потомкам. Коллективизму нечего противопоставить новой социальной теории. Непрерывно повторяющиеся обвинения, что эта теория недооценивает важность соllectiva, особенно таких, как Государство и Нация, показывают только, что коллективизм не заметил, как влияние либеральной социологии изменило постановку проблем. Коллективизм более не пытается создать законченную теорию общественной жизни; все, что он может противопоставить своим противникам, -- это остроумные афоризмы, и не больше. В экономике, так же как в общей социологии, он проявил свою совершенную бесплодность. Не случайно германский гений, одолеваемый социальными теориями классической философии от Канта до Гегеля {Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770--1831) -- классик немецкой философии, объективный идеалист, диалектик}, в течение долгого времени не мог произвести ничего путного в экономике, а те, кто прорвал заклятие (сначала Тюнен и Госсен, затем австрийцы Карл Менгер, Бем-Баверк и Визер), были свободны от какого-либо влияния коллективистской философии государства. {Тюнен Иоганн Генрих (1783--1850) и Госсен Герман Генрих (1810--1858) -- немецкие экономисты, заложившие основы теории предельной полезности и производительности, отрицающей классическую трудовую теорию стоимости, на которой базировались социалистические требования ликвидации доходов капиталиста как нетрудовых. Менгер Карл (1840--1921) -- австрийский экономист, один из создателей теории предельной полезности, основатель "австрийской (венской) школы" в политической экономии. Бем-Баверк Евгений (1851--1914) -- австрийский экономист, внесший существенный вклад в развитие теории предельной полезности. Визер Фридрих (1851--1926) -- австрийский экономист, один из разработчиков теории предельной полезности благ и на ее основе -- теории капитала и процента. Взгляды этих основоположников австрийской школы разделял и Людвиг фон Мизес.} Сколь мало коллективизм был способен обойти трудности по развитию собственной доктрины, лучше всего видно из того, как он обошелся с проблемой общественной воли. Опять и опять говорить о Воле государства, о Воле народа, об Убеждениях народа -- это далеко не способ объяснить, как именно возникает коллективная воля социальной группы. Поскольку она в существеннейших моментах отличается от воли отдельного индивида и даже вполне противоположна ей, коллективная воля не может возникнуть, как слагаемая индивидуальных волеизъявлений. Каждый коллективист находит своеобычный источник коллективной воли сообразно собственным политическим, религиозным и национальным убеждениям. В сущности, совершенно одно и то же, полагается ли источником сверхъестественная власть короля или священника либо она истолковывается как качество определенного класса или народа. Фридрих Вильгельм IV и Вильгельм II были вполне убеждены, что Господь наделил их особой властью, и эта вера, несомненно, подстегивала их сознательные усилия и укрепляла их. {Фридрих Вильгельм IV (1795--1861) -- прусский король, установивший режим жестокой реакции. Вильгельм II (1859--1941) -- германский император, один из политических лидеров, развязавших первую мировую войну.} Но наука столь же мало способна доказать истинность этой веры, как и доказать истинность религии. Коллективизм -- явление политическое, а не научное. И все его содержание суть ценностные суждения. {Ценностные суждения -- суждения, выражающие ценностные установки, моральные оценки и т. п. С позиций формальной логики они не обладают необходимым признаком суждения, ибо не могут характеризоваться как истинные или ложные. Потому, как считает Мизес, ценностные суждения лежат вне сферы науки.} Коллективизм в целом всегда благосклонен к идее обобществления средств производства, поскольку это близко его мировосприятию. Но есть коллективисты, которые защищают частную собственность на средства производства, поскольку верят, что такой порядок более благоприятен для общества в целом [Huth, Soziale und Individualistische Auffassung im 18. Jahrhundert, vornehmlich bei Adam Smith und Adam Ferguson, Leipzig, 1907, S. 6]. В то же время, даже вне зависимости от влияния идей коллективизма, можно прийти к убеждению, что частная собственность на средства производства менее благоприятна для целей всего человечества, чем общественная собственность. Глава III. Социальный порядок и политическое устройство 1. Политика насилия и политика договора Господство принципа насилия не ограничено, естественно, сферой собственности. Дух доверия исключительно к мощи, ищущий основ благосостояния не в соглашении, но в непрекращающемся конфликте, пронизывает всю жизнь. Все человеческие отношения были установлены в соответствии с "правом сильного", которое на деле есть просто отрицание Права. Это не был мир. В лучшем случае -- перемирие. Общество возникло из мельчайших объединений. Круг объединяющихся ради взаимного мира был сначала очень ограничен. Круг расширялся шаг за шагом тысячелетиями, пока мирный союз и сообщество международного права не охватили большую часть человечества, отделив его дикую половину, живущую на нижних этажах культуры. Не везде внутри цивилизованного сообщества принцип договора был равно могущественным. С наибольшей полнотой он был признан во всем, что касалось собственности. Слабее всего он соблюдался там, где речь шла о политическом господстве. В сфере иностранной политики он утвердился лишь настолько, чтобы установить законы войны, несколько ограничивающие принцип насилия. Кроме случаев арбитража, представляющих собой недавнее достижение, споры между государствами до сих пор по большей части разрешаются силой оружия. Это традиционнейшая древняя правовая процедура; битвы, в которых выносят решение, подобно судебным дуэлям древнего права должны подчиняться неким правилам. Тем не менее, было бы ложью утверждать, что в межгосударственных делах страх перед иностранным насилием является единственным фактором, который удерживает меч в ножнах. [Как, например, утверждает Лассон (Lasson, Prinzip und Zukunftl des Volkerrechts, Berlin, 1871, S. 35) {Лассон Адольф (1832--1917) -- немецкий философ и правовед, автор ряда работ по философии права.}] Силы, тысячелетиями действовавшие в международной политике, поставили ценность мира над прибылью победоносной войны. В наше время даже могущественнейший воитель не может игнорировать правовую максиму, согласно которой война должна иметь основательные причины. Воюющая сторона вынуждена теперь доказывать, что ведет правую войну и что война эта оборонительная либо, по крайней мере, превентивно оборонительная, такова важная дань принципу Закона и Мира. Каждая политика, открыто принимавшая принцип насилия, вызывала против себя мировую коалицию, которой, в конце концов, и подчинялась. В социальной философии либерализма человеческий разум впервые приходит к осознанию того, что принцип мира превосходит принцип насилия. В этой философии впервые человечество дает себе отчет в собственных действиях. Она срывает романтический нимб, который всегда окружал власть. Война, учит либерализм, губительна не только для побежденных, но и для победителей. Общество возникло в результате мирного труда; сущность общества -- миротворчество. Не война, а мир -- отец всех вещей. Только хозяйственная деятельность создает богатство; не военное ремесло, а труд приносит счастье. Мир созидает, война разрушает. Народы большей частью тяготеют к миру, потому что они осознают преобладающую пользу мира. Они принимают войны только во имя самозащиты; агрессивных войн они не хотят. Только князья хотят войны, ибо надеются приобрести деньги, вещи и власть. Дело народов -- помешать исполнению их желаний, лишив их средств для ведения войны. Любовь либералов к миру проистекает не из филантропических чувств, как пацифизм Берты Зутнер и ей подобных. {Зутнер Берта (1843--1914) -- австрийская писательница, видная деятельница пацифистского движения. Возглавляла Венский Союз друзей мира, издавала журнал "Долой оружие" -- орган Интернационального Бюро мира. Лауреат Нобелевской премии мира 1905 года.} В этой любви нет мрачности, обычной у многих, кто пытается одолеть романтизм кровавой страсти трезвостью международных конгрессов. Это пристрастие к миру -- не благотворительная игра, которая, впрочем, уживается с прочими убеждениями. Просто такова социальная теория либерализма. Кто настаивает на единстве экономических интересов всех народов и сохраняет безразличие к размерам национальной территории и форме национальных границ, кто настолько отошел от коллективистских идей, что выражения типа "честь государства" звучат для него полной бессмыслицей, для того просто не существует оправданий для агрессивной войны. Либеральный пацифизм есть порождение социальной философии либерализма. То, что либерализм выступает в защиту собственности и отрицает войну, есть два выражения одного и того же принципа. [В усилиях записать все зло на счет капитализма социалисты попытались даже определить современный империализм и, следовательно, мировую войну как продукт капитализма. Возможно, нет нужды ближе заниматься этой теорией, выдвинутой на потребу не рассуждающих масс. Но нелишним будет припомнить, что Кант был прав, когда ожидал от растущего влияния "силы денег" постепенного уменьшения воинственности. "Дух торговли, -- говорит он, -- ...вот что несовместимо с войной" (Kant, Zum ewigen Frieden. Samtliche Werke., Bd. V, S. 688) <Кант И., К вечному миру // Собр. соч., Т.6, М., 1966, С. 287>; см. также Sulzbach, Natlonales Gemeinschaftsgefuhl und wirtschaftliches Interesse, Leipzig, 1929, S. 80 ff.] 2. Социальная функция демократии Во внутренней политике либерализм требует полнейшей свободы выражения политического мнения, устройства государства в соответствии с волей большинства; он требует, чтобы законы составляли представители народа и чтобы правительство, которое представляет собой комитет народных представителей, было подчинено закону. Мирясь с монархией, либерализм просто идет на компромисс. Его идеалом остается республика или, по крайней мере, призрачная монархия по английскому образцу, ибо его высший политический принцип -- самоопределение людей как индивидов. Тщетно обсуждать, является ли этот идеал демократическим или нет. Современные авторы склонны вводить различие между либерализмом и демократией. Похоже, что у них нет ясного представления ни о том, ни о другом. А главное, лелеемые ими взгляды на правовые основы демократических установлений заимствованы исключительно из круга идей доктрины естественного права. Вполне может быть, что большинство либеральных теоретиков пытались поддерживать демократические установления, также ссылаясь на то, что они соответствуют воззрениям естественного права о неотчуждаемости права человека на самоопределение. Но мотивы, которыми политические движения оправдывают свои требования, не всегда совпадают с причинами, вынуждающими их к действию. Зачастую легче действовать в политике, чем ясно видеть конечные мотивы собственных действий. Старый либерализм знал, что демократические требования неизбежно порождаются всей его социально-философской системой. Но было не вполне ясно, каково их действительное место в этой системе. Этим объясняется та неопределенность, которая всегда проявляется по основным вопросам; этим также объясняется безмерная преувеличенность псевдодемократических требований тех, кто присвоил имя "демократ" исключительно себе и таким образом противопоставил себя либералам, не заходившим столь далеко. Значение демократических форм государственного устройства не в том, что они больше любых других соответствуют естественным и врожденным правам человека; не в том, что лучше любого другого вида правления демократия воплощает идеи свободы и равенства. Отвлеченно говоря, человеку столь же мало пристало позволять управлять собой, как и позволять кому-либо работать за него. Что гражданин развитого общества чувствует себя свободным и счастливым при демократическом режиме, что он считает его лучшим, чем любая другая форма власти, и что он готов к жертвам ради достижения и поддержания такого порядка, - все это опять-таки не следует объяснять тем, что демократия достойна любви сама по себе. Дело в том, что она выполняет функции, без которых невозможно обойтись. Обычно отмечают, что важная функция демократии -- отбор политических лидеров. В демократической системе назначение на важнейшие посты определяется конкуренцией в обстановке полной гласности, свойственной политической жизни, и в этой конкуренции, как принято думать, обычно побеждают самые достойные. Не очень понятно, почему демократия должна оказаться непременно более удачливой, чем автократия или аристократия, в отборе людей для управления государством. В недемократических государствах, как показывает история, политически одаренные люди нередко пробивались наверх, и одновременно нельзя утверждать, что в демократиях всегда лучшие попадают на должное место. По этому вопросу враги и друзья демократии никогда не договорятся. Истинное значение демократических форм устройства государства совсем в ином. Их функция -- поддерживать мир, избегать насильственных переворотов. В недемократических государствах точно так же только правительство, имеющее поддержку общественного мнения, может рассчитывать на устойчивость. Сила всех правительств не в оружии, но в том духе, который подчиняет правительству все оружие. Правящая группа, всегда являющаяся малым меньшинством среди подавляющего большинства, может приобрести и удержать власть, только расположив настроение большинства в свою пользу. Если что-либо изменяется, если те, от чьей поддержки правительство зависит, теряют уверенность, что они должны поддерживать именно это правительство, тогда почва, на которой держатся власти, подорвана и рано или поздно им придется уйти. Правители и режимы в недемократических государствах могут быть изменены только насилием. Режим правления и люди, потерявшие поддержку народа, бывают сметены восстанием, и новый режим и новые люди занимают их место. Но каждый насильственный переворот стоит крови и денег. Приносятся человеческие жертвы, и разрушения тормозят хозяйственную деятельность. Демократии пытаются предотвратить такие материальные потери и сопровождающие их психические потрясения, гарантируя согласие между волей государства (как она выражается через органы управления) и волей большинства. Это достигается тем, что государственные органы ставятся в зависимость от воли существующего большинства. Во внутренней политике так реализуется то, что пацифизм мечтает осуществить во внешней политике. [Может быть, не вполне случайно в известном смысле, что писатель, который на пороге Ренессанса первым выдвинул демократическое требование о передаче законодательства народу, -- Марсилий из Падуи {Марсилий Падуанский (между 1275 и 1280 -- около 1343) -- итальянский политический мыслитель, один из основоположников концепции возникновения государства в результате общественного договора} -- назвал свою работу "Defensor Pads" {"Защитник мира" -- лат.} (Atger, Essai sur l'histoire des Doctrines du Contrat Social, Paris, 1906, P. 75; Scholz, Marsilius von Padua und die Idee der Demokratie // Zeitschrift fur Politik, 1908, I Bd., S. 66 ff.).] Что только это является решающей функцией демократии, становится ясно из аргументов, которые противники демократии чаще всего выдвигают против нее. Русские консерваторы, несомненно, правы, когда указывают, что русский царизм и политика царя одобрялись громадной массой русских людей, так что даже демократическое устройство не могло бы дать России другого правительства. Русские демократы также не имели иллюзий по этому поводу. Пока большинство русского народа (вернее, политически зрелая его часть, имевшая возможность влиять на политику) стояло за царизм, русское государство не нуждалось в демократических формах правления. Однако отсутствие демократических форм правления стало роковым для России с того момента, когда возникло расхождение между общественным мнением и политической системой царизма. Раздор между волей государства и волей народа нельзя было уладить мирными методами; политическая катастрофа оказалась неизбежной. Что верно для царской России, столь же верно и для России большевистской; это так же верно для Пруссии-Германии и для всякого другого государства. Как ужасны были последствия Французской революции, которые Франция психически так никогда и не изжила! Как бесконечно много выиграла Англия от того, что сумела избежать революций с XVII века! Очевидно, что большая ошибка отождествлять демократию с революцией или даже просто уподоблять их. Демократия не только не революционна, но она всегда стремится исключить революцию. Культ революции, насильственного переворота любой ценой, особенно характерный для марксизма, не имеет ничего общего с демократией. Либерализм, осознавая, что для достижения экономических целей человеку необходим мир, и стремясь в силу этого к устранению всех причин вражды внутри страны и за рубежом, требует демократии. Жестокость войн и революций в глазах либерала всегда зло, которое так или иначе неизбежно, пока нет демократии. Однако даже когда революция представляется почти неизбежной, либерализм пытается спасти людей от насилия. Он не оставляет надежды, что философия может настолько просветить тиранов, что они добровольно откажутся от прав, препятствующих социальному развитию. Шиллер {Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих (1759--1805) -- немецкий драматург, поэт, историк} говорит как либерал, когда у него маркиз де Поза умоляет короля дать свободу мысли {имеется в виду драма Фридриха Шиллера (1783--1787) "Дон Карлос", а именно сцена встречи "гражданина Вселенной" маркиза Позы с королем Испании Филиппом II (Шиллер Ф., Избр. соч., В 2 т., Т.1, М., 1959)}; а историческая ночь 4 августа 1789 г., когда французские дворяне добровольно отказались от своих привилегий, и английский закон о реформах 1832 г. показывают, что эти надежды не были вполне напрасными. {В ночь 4 августа 1789 г. в Учредительном собрании виконт Де Ноай, герцог Д'Эйгийон и другие представители дворянства потребовали ликвидации феодальных прав (помещичьего суда, права охоты на крестьянских землях и т. п.) и феодальных повинностей (барщины, оброчных платежей и т. д.). Учредительное собрание поддержало отказывающихся от своих привилегий дворян. В марте--июне 1832 г. в Великобритании господствовавшая в парламенте аристократия пошла на уступки промышленной буржуазии, проведя парламентскую реформу. Согласно Биллю о реформе было ликвидировано представительство от мелких или вообще фиктивных избирательных округов, что лишило помещиков примерно пятой части мест в парламенте.} Либерала не приводит в восторг самоотверженная грандиозность марксистских профессиональных революционеров, которые жертвуют тысячами жизней и разрушают плоды вековых трудов. Здесь вполне хорош хозяйственный подход: либерализм желает успеха наименьшей ценой. Демократия -- самоуправление народа, его автономия. Но это не значит, что все должны равно соучаствовать в законодательстве и администрации. Прямая демократия возможна только в малых группах. Даже небольшой парламент не может вести всю работу на пленарных заседаниях; следует избирать комитеты, и вся основная работа выполняется отдельными людьми: спикерами, докладчиками и, прежде всего авторами законопроектов. В этом окончательное доказательство того, что массы следуют за немногими лидерами. Что люди вовсе не равны, что некоторые рождаются быть лидерами, а некоторые -- ведомыми, этого не могут изменить даже демократические установления. Все не могут быть первопроходцами: большинство этого и не хочет, да и нет у него нужных сил. Идея, что при настоящей демократии люди будут проводить время в совете подобно членам парламента, возникла из представления о древнегреческом городе-государстве периода упадка; но при этом упускается из виду тот факт, что такие общины вовсе не были демократиями, поскольку исключали из общественной жизни рабов и всех тех, кто не обладал всей полнотой прав гражданина. Там, где все должны трудиться, "чистый" идеал демократии становится нереализуемым. Стремление увидеть демократию реализованной именно в этой невозможной форме есть не что иное, как педантское доктринерство в стиле естественного права. Чтобы достичь целей демократических установлений, необходимо только, чтобы законодательная и административная работа следовала воле большинства народа, и для этих целей непрямая демократия вполне хороша. Существо демократии не в том, что каждый пишет законы и управляет, но в том, чтобы законодатели и управляющие на деле зависели от воли народа, чтобы их можно было мирно заменить в случае конфликта. Такое понимание снимает многие аргументы как друзей, так и недругов народовластия, направленные против реализуемости демократии [см., с одной стороны, писания защитников прусского авторитарного государства, а с другой -- прежде всего писания синдикалистов (Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie, 2 Aufl., Leipzig, 1925, S. 463 ff.)]. Демократия не делается менее демократичной оттого, что лидеры выделяются из массы, чтобы посвятить себя целиком политике. Подобно любой другой профессии в обществе с разделением труда политика требует всего человека; от политиков-дилетантов нет никакой пользы [Max Weber, Politik als Beruf, Munnchen und Leipzig, 1920, S. 17 ff. <Вебер М., Политика как профессия. // Избр. произв., М.. 1990, С. 651 и след.>]. До тех пор, пока профессиональный политик зависит от воли большинства и может выполнять только то, за что и получил большинство голосов, демократический принцип не нарушен. Не требует демократия и того, чтобы парламент был миниатюрной копией картины социальной стратификации в стране, так что если большинство населения составляют крестьяне и промышленные рабочие, то и в парламенте они же составляли бы большинство. [Естественно-правовые теории демократии, не способные оценить преимущества разделения труда, сохраняют верность идее "представительства" выборщиков выбранными. Нетрудно показать всю искусственность этой концепции. Член парламента, который для меня изготовляет законы и для меня контролирует администрацию, "представляет" меня не в большей степени, чем доктор, который меня лечит, или сапожник, который шьет мне обувь. Существенное отличие его от доктора и сапожника не в том, что он выполняет для меня услуги другого рода, но в том, что я, будучи недоволен им, не могу избавиться от его услуг с той же простотой, с какой я меняю доктора или сапожника. Чтобы влиять на правительство так же, как я влияю на врача и сапожника, я и хочу быть избирателем.] Свободный джентльмен, который играет большую роль в английском парламенте, юрист и журналист в парламентах романских стран, возможно, представляют народ лучше, чем лидеры профсоюзов и крестьяне, которые внесли дух запустения в парламенты Германии и славянских стран. Если представители высших социальных слоев действительно исключены из парламентской деятельности, эти парламенты и формируемые ими правительства не могут представлять волю народа. Высшие слои, состав которых сам по себе есть результат отбора, производимого общественным мнением, оказывают на умы людей влияние, далеко превосходящее их скромную численность. Если их не допускать в парламенты и правительства как людей, неподходящих для власти, возникнет конфликт между общественным мнением и мнением парламента, и этот конфликт сделает трудным, если не вовсе невозможным, функционирование демократических институтов. Внепарламентские влияния скажутся и на законодательном процессе, и на администрировании, ибо интеллектуальное влияние исключенных из политической жизни не может быть удушено менее достойными элементами, заправляющими в парламенте. Ни от чего парламентаризм не страдает так, как от этого; здесь мы должны искать причины плачевного упадка парламентов. Ведь демократия -- не власть толпы, и чтобы соответствовать своим задачам, парламент должен включать лучшие политические умы нации. Тяжко исказили идею демократии те, кто, преувеличивая концепцию естественного права о суверенности, трактуют ее как безграничное господство volonte general {volonte general -- всеобщая воля (фр.)}, В действительности нет существенной разницы между неограниченной властью демократического государства и неограниченной властью самодержца. Увлекающая наших демагогов и их сторонников идея, что государство может делать что угодно, и никто не должен препятствовать исполнению воли суверенного народа, принесла больше зла, чем маниакальный цезаризм вырождающихся князьков. Все это порождено представлением о государстве как носителе политического могущества. Законодатель чувствует себя свободным от всех ограничений, поскольку он почерпнул из теории права, что весь закон восходит к его воле. Эта небольшая путаница представлений имеет очень большие последствия, когда законодатель принимает свою формальную свободу за действительную и верит, что он стоит над естественными условиями общественной жизни. Возникающий из-за этого неверного понимания конфликт показывает, что только в рамках либерализма демократия оказывается функциональной. Демократия без либерализма -- пустая форма. 3. Идеал равенства Политическая демократия с необходимостью вытекает из либерализма. Но часто говорят, что демократический подход должен, в конце концов, выйти за пределы либерализма. Утверждается, что, последовательно осуществленный, он потребует не только политического, но и экономического равенства. Посему чисто логически из либерализма должен развиться социализм, а сам либерализм несет в себе начало собственного разрушения. Идеал равенства также возник как требование естественного права. Его пытались обосновать религиозными, психологическими и философскими аргументами, но все они оказались несостоятельными. Дело в том, что люди от природы разные; требование о равенстве состояний не может быть обосновано тем, что все равны. Нищета аргументов естественного права наиболее очевидна, когда речь идет о принципе равенства. Следует начать с исторического исследования, чтобы понять этот принцип. В новое время, как и прежде, к нему прибегали, чтобы сокрушить феодальную иерархию индивидуальных прав и свобод. До тех пор, пока свободное развитие индивидуумов и целых социальных групп сдерживается, общественная жизнь обречена на беспокойство и жестокие восстания. Бесправные люди всегда представляют угрозу общественному порядку. Их объединяет общая заинтересованность в устранении препятствий к развитию; они готовы обратиться к насилию, поскольку мирными средствами не могут получить желаемое. Общественный мир становится возможен, когда каждый обретает доступ к участию в демократических институтах. Это и означает равенство всех перед законом. Есть и другое соображение, понуждающее либерализм признать желательность такого равенства. Общественные потребности удовлетворяются наилучшим образом, когда средствами производства распоряжаются те, кто способен с ними лучше управиться. Иерархизация прав согласно случайностям рождения не дает лучшим управляющим доступа к производительным благам. Всем известна роль этого аргумента в либеральном движении, и прежде всего в борьбе за свободу крепостных. Наитрезвейшие соображения целесообразности делают либерализм сторонником равенства. При этом либерализм полностью отдает себе отчет, что равенство перед законом может при некоторых обстоятельствах оказаться крайне тягостным для индивида, поскольку то, что на пользу одному, может быть пагубным для другого. Но либеральная идея равенства основывается на соображениях общественной выгоды, и перед ними претензии отдельных людей должны отступать. Подобно другим общественным установлениям закон существует на потребу общества. Индивид должен подчиниться, ибо его собственные цели могут быть реализованы только в рамках общества и вместе с обществом. Значение правовых институтов понимается неверно, когда от них требуют чего-то большего и делают их основой новых претензий, подлежащих реализации без оглядки на мир и сотрудничество в обществе. Создаваемое либерализмом равенство есть равенство перед законом; и никогда не имелось в виду ничего иного. С либеральной точки зрения критика этого равенства как неадекватного (в предположении, что истинное равенство состоит в равенстве доходов) неоправданна. Но именно в этой форме провозглашают принцип равенства те, кто надеется выиграть от равного распределения благ. Здесь плодородная почва для демагогии. Кто бы ни взялся возбуждать возмущение бедных против богачей, может рассчитывать на большую аудиторию. Демократия создает наилучшие исходные условия для развития этих настроений, в скрытом виде наличных всегда и везде. [Здесь можно повторить за Прудоном {Прудон Пьер Жозеф (1809--1865) -- французский социалист, один из основоположников анархизма.}: "La democratie c'est l'envie" {"Демократия -- это зависть" -- фр.} (Poehlmann, Geschichte der sozialen Frage und des Socialismus in der antiken Welt, Bd. I, S 317, Anm. 4).] Все демократические государства терпели крушение именно на этом. И демократии нашего времени идут к тому же. Очень странно, что несоциальной называют как раз ту форму идеи равенства, которая рассматривает равенство достижения только с точки зрения достижения целей общественной жизни и стремится к равенству лишь постольку, поскольку оно служит этой цели. В то же время требование, чтобы равенство независимо от последствий включало требование равного подушного распределения национального дохода, выдвигается как истинно социальный подход. В греческом городе-государстве в IV веке гражданин считал себя владельцем всего, что принадлежит подданным государства, и требовал своей части настоятельнейшим образом, как акционер требует своих дивидендов. Относительно практики распределения общественной собственности и конфискованной частной собственности Эсхин {Эсхин (389--314 до н.э.) -- афинский политический деятель и оратор} делает следующее замечание: "Афиняне расходились с народного собрания не как с политической сходки, но как с заседания сообщества, на котором делились прибыли" [Ibid., Bd., S. 333]. Нельзя отрицать, что даже ныне средний человек склонен смотреть на государство как на источник, из которого хорошо бы выкачать побольше. Но такое понимание равенства никак не является необходимым следствием идеи демократии. Не следует a priori отдавать предпочтение такому равенству перед всеми другими принципами общественной жизни. Прежде чем выносить о нем суждение, нужно как следует разобраться с его последствиями. Тот факт, что это требование весьма популярно в массах и в силу этого легко приобретает поддержку демократического государства, не делает его основным принципом демократии и не может защитить его от испытующего взгляда теоретика. 4. Демократия и социал-демократия Представление, что демократия и социализм внутренне взаимосвязаны, широко распространилось в десятилетия, предшествовавшие большевистской революции. Многие поверили, что демократия и социализм попросту одно и то же и что демократия без социализма, как и социализм без демократии, невозможна. Представление развилось в результате сопряжения двух направлений мысли, причем обе они восходят к гегелевской философии истории. Для Гегеля мировая история есть "прогресс в осознании свободы". Пути прогресса таковы: "Восток знал и знает только, что один свободен, греческий и римский мир знает, что некоторые свободны, германский мир знает, что все свободны" [Hegel, Vorlesungen uber die Philosophie der Weltgeschichte, Ausg. von Lasson I Bd., Leipzig, 1917, S. 40 <Гегель Г. В. Ф., Философия истории. // Соч., Т. 8, М.-Л., 1935, С. 98>]. Нет сомнения, что свобода, о которой говорил Гегель, весьма отличается от той, за которую сражались радикальные политики в его время. Гегель просто интеллектуализировал идеи, общие для всей эпохи Просвещения. Но радикальные младогегельянцы вычитывали из его книг то, что им требовалось. {Младогегельянцы -- сформировавшаяся в 40-е годы XIX в. ветвь последователей философии Гегеля (А. Руге, Б. Бауэр и др.). Младогегельянцы подчеркивали решающую роль субъективного фактора в истории; в противовес гегелевскому оправданию всего сущего как разумного они делали упор на развитии общества.} Для них было несомненным, что эволюция в сторону демократии необходима (в гегелевском смысле термина необходимость). Их примеру последовали историки. Гервинус {Гервинус Георг Готфрид (1805--1871) -- германский историк -- видел в истории закономерное движение от аристократии к демократии} видел "в эволюции человечества в целом", как и "во внутренней эволюции государств", "правильный прогресс свободы духовной и гражданской, которая сначала принадлежит только нескольким личностям, потом распространяется на большее их число и, наконец, достается многим" [Gervinus, Einleitung in die Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts, Leipzig, 1853, S. 13 <Гервинус Г., Введение в историю девятнадцатого века, Спб, 1864, С. 9>]. Материалистическая концепция истории вкладывает в представление о "свободе многих" другое содержание. Многие -- это пролетарии; они должны с необходимостью стать социалистами, поскольку социальные условия определяют сознание. Таким образом, эволюция к демократии и эволюция к социализму стали одним и тем же. Демократия есть инструмент реализации социализма, но в то же время и социализм есть инструмент построения демократии. Название партии "социал-демократическая" наиболее ясно выражает эту соотнесенность демократии и социализма. С именем демократия социалистические рабочие партии приняли духовное наследие "Молодой Европы". {"Молодая Европа" -- тайный международный союз революционеров-демократов, основанный в 1834 г. Дж. Мадзини. Союз ставил своей целью утверждение во всей Европе республиканского строя.} Все лозунги до мартовского радикализма {имеется в вицу радикализм эпохи, предшествовавшей революции 1848 г., начавшейся в Австро-Венгрии и Германии в марте} перекочевали в программы социал-демократических партий. Эти лозунги привлекли в партии тех, кто был либо безразличен, либо даже враждебен социализму. Отношение марксистского социализма к демократическим требованиям определялось тем, что это был социализм народов, населявших Австро-Венгерскую и Российскую империи, -- немцев, русских и ряда малых наций. Каждая оппозиционная партия в этих более или менее автократических государствах должна была в первую очередь требовать демократии, чтобы создать условия для политической деятельности. Для социал-демократов тем самым вопрос о демократии был исключен из дискуссий; было просто немыслимо нанести ущерб демократической идеологии pro foro externo {pro foro externo -- поразить в результате проникновения вглубь (лат.)} Но вопрос о взаимоотношении двух идей, соединенных в двойном названии, не мог быть полностью подавлен внутри партии. Проблему начали делить на две части. Когда говорили о грядущем социалистическом рае, продолжали подчеркивать взаимозависимость терминов и даже шли немного дальше, утверждая, что это в сущности одно и то же. Впрочем, хороший социалист, ожидающий абсолютного спасения в предполагаемом раю, и не мог прийти к другому заключению, поскольку он при этом сохранял понимание демократии как чего-то вполне хорошего. Было бы что-то неправильно с землей обетованной, если бы она не была одновременно наилучшем образом устроенной и политически. Потому-то социалистические авторы без устали провозглашали, что только в социалистическом обществе может существовать истинная демократия. То, что принимают за демократию в капиталистических государствах, -- просто карикатура, придуманная для маскировки махинаций эксплуататоров. Хотя дело представлялось так, что цели социализма и демократии едины, никто не был вполне уверен, одной ли дорогой они идут. Обсуждалась проблема, следует ли достигать социализма -- а значит, как они верили, и демократии -- только с помощью демократических методов либо в борьбе допустимы отступления от принципов демократии. Это и была знаменитая дискуссия о диктатуре пролетариата; в марксистской литературе этот вопрос был темой академических дискуссий вплоть до большевистской революции, а после нее он превратился в большую политическую проблему. Подобно другим расхождениям во взглядах, которые разбивали марксистов на группы, свара возникла из-за двойственности их догм, называемых марксизмом. В марксизме всегда есть, по меньшей мере, два подхода ко всему и ко всем, и примирение этих подходов возможно только с помощью диалектических уловок. Обычнейший прием состоит в том, чтобы использовать в соответствии с нуждами момента слова, допускающие, по меньшей мере, два толкования. С этими словами, которые одновременно в виде политических лозунгов служат гипнотизации психики масс, распространялось учение, заставляющее вспомнить об идолопоклонстве. Марксистская диалектика, в сущности, есть не что иное, как обожествление слов. Каждый из предметов веры воплощается словом-идолом, неоднозначность которого позволяет выражать им несовместимые идеи и требования. Интерпретация этих слов, намеренно столь же неопределенных, как речения дельфийской Пифии {дельфийская Пифия -- прорицательница в храме Аполлона в Дельфах; предсказания Пифии, обычно крайне туманные, нуждались в специальном толковании}, в конце концов приводит к столкновению мнений, и каждый цитирует в свою пользу излюбленные пассажи из писаний Маркса и Энгельса, которые являются высшим авторитетом. "Революция" -- одно из таких слов-фетишей. Промышленной революцией марксизм считает постепенную трансформацию докапиталистического способа производства в капиталистический. {Промышленной революцией называли задолго до появления марксизма совершившийся в Англии в конце XVIII -- начале XIX в. переход от ручного производства к фабричной машинной индустрии. В одной из самых ранних работ Энгельса "Положение Англии. Восемнадцатый век" (опубликована в августе 1844 г.) термин "промышленная революция" используется как общепринятый (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.2. С. 598--617). Но уже в этой статье промышленная революция рассматривается как основа революции социальной, что в дальнейшем всячески акцентировалось Марксом и Энгельсом.} Революция здесь означает то же самое, что и развитие, и противоположность терминов "эволюция" и "революция" здесь почти ликвидирована. В результате марксист имеет возможность, когда нужно, говорить о революционном настроении как о презренном "путчизме" ("бунтарстве"). И ревизионисты были вполне правы, когда в свою поддержку цитировали многие строчки из Маркса и Энгельса. {Мизес имеет в виду "молодых марксистов" -- Эдуарда Бернштейна (1850--1932) и его сторонников, выступивших на рубеже нашего века с ревизией ряда положений канонического марксизма, в частности по вопросу о путях перехода к социализму. В своей книге "Предпосылки социализма и задачи социал-демократии" (1899 г., русский перевод -- 1901 г.) Э. Бернштейн утверждал, что главным законом общественного развития являются не насильственные перевороты, а мирная эволюция.} Но когда Маркс называл рабочее движение революционным и говорил, что рабочие -- единственный истинно революционный класс, он использовал термин "революция" в том смысле, который напоминает о баррикадах и уличных сражениях. Так что синдикализм также прав, когда апеллирует к Марксу. {Синдикализм (анархо-синдикализм) -- течение в рабочем движении, сформировавшееся в конце XIX в. Синдикалисты под влиянием анархистов отрицали легальную политическую борьбу и считали, что средством свержения буржуазного общества должны быть непосредственные действия: всеобщая стачка, бойкот, вооруженные выступления, организуемые синдикатами (профессиональными союзами).} Так же туманно использует марксизм и слово государство. Согласно марксизму государство есть просто инструмент классового господства. Приходя к власти, пролетариат прекращает классовые конфликты, и государство отмирает. "С того времени, когда не будет ни одного общественного класса, который надо было бы держать в подавлении, с того времени, когда исчезнут вместе с классовым господством, вместе с борьбой за отдельное существование, порождаемой теперешней анархией в производстве, те столкновения и эксцессы, которые проистекают из этой борьбы, -- с этого времени нечего будет подавлять, не будет и надобности в особой силе для подавления, в государстве. Первый акт, в котором государство выступает действительно как представитель всего общества -- взятие во владение средств производства от имени общества, -- является в то же время последним самостоятельным актом его как государства. Вмешательство государственной власти в общественные отношения становится тогда в одной области за другой излишним, и государство само собой засыпает" [Engels, Herrn Eugen Duhring Umwalzung der Wissenschaft, I Aufl., Stuttgart, 1910, S. 302 <Энгельс Ф., Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 20, С. 292>]. Сколь бы темным или плохо продуманным ни было это понимание политической организации, данное утверждение настолько определенно характеризует власть пролетариата, что места для сомнений просто быть не может. Но все становится менее определенным, когда мы вспоминаем утверждение Маркса, что между капиталистическим и коммунистическим обществами должен быть период революционных преобразований и ему соответствует "политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата" [Marx, Zur Kritik des Sozialdimokratischen Programms, von Iotha, S 23 <Маркс К., Критика Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 19, С. 27>]. Если мы предположим вместе с Лениным, что этот период продлится вплоть до достижения "высшей фазы коммунистического общества", в которой "исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда, когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда", когда "труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни", тогда, конечно, нам нелегко будет понять, что же Маркс понимал под демократией [Ibid., S. 17 <там же, С. 20>; см. также Lenin, Staat und Revolution, Berlin, 1918, S. 89 <Ленин В. И., Государство и революция. // Полн. собр. соч., Т. 33, С. 95>]. Очевидно, социалистическое сообщество столетиями не сможет найти места для демократии. Несмотря на случайные упоминания исторических заслуг либерализма, марксизм полностью игнорирует важность либеральных идей. Он оказывается в затруднении, когда сталкивается с либеральными требованиями свободы совести и свободы выражения мнений, с требованием признать в принципе все оппозиционные партии и обеспечить равные права для всех партий. Когда он не у власти, марксизм провозглашает все основные либеральные права, ибо только они могут обеспечить ему свободу, необходимую для собственной пропаганды. Но марксизм не в силах постичь существо этих прав и свобод и никогда не предоставляет их своим противникам, когда приходит к власти. В этом отношении он похож на церкви и другие организации, строящиеся на принципе насилия. Эти также эксплуатируют демократические свободы, когда отстаивают себя, но, придя к власти, отказывают в таких правах своим соперникам. Так, -- вполне явно -- демократичность социализма демонстрирует свою лживость. "Партия коммунистов, -- говорит Бухарин {Бухарин Николай Иванович (1888--1938) -- видный деятель русского и международного коммунистического движения, автор работ по философии и политической экономии}, -- не только не требует никаких свобод ... для буржуазных врагов народа. Наоборот". И с потрясающим цинизмом он бахвалится, что коммунисты, пока не имели власти, защищали свободу слова просто потому, что было бы "смешным" требовать от капиталистов свободы для рабочего движения в какой-либо другой форме, чем требуя свободу вообще [Bukharin, Das Program der Kommunisten (Bolschewiki), Zurich, 1918, S. 24 ff. <Бухарин H., Программа коммунистов (большевиков), М., 1918, С. 21 и след.>]. Всегда и везде либерализм требует демократии прежде всего. Он не хочет ждать, когда народ "созреет" для демократии, ибо полагает, что демократия выполняет столь важные общественные функции, что ее введение не терпит отлагательств. Вне демократии мирное развитие государства невозможно. Требование демократии -- не результат политического компромисса или потворства релятивизму в вопросах мироустройства [так считает Кельзен {Кельзен Ганс (1881--1973) -- австрийский правовед (с 1942 г. -- в США)} (Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie // Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 47 Bd., S. 84; см. также Menzel, Demokratie und Weltanschauung // Zeitschrift fur oflentliches Recht, II Bd., S. 701 ff.)], ибо либерализм доказывает абсолютную обоснованность своего учения. Скорее в склонности к демократии сказывается уверенность либерализма в том, что власть требует только господства над умами и что для приобретения такого господства годится только духовное оружие. Либерализм защищает демократию даже в тех случаях, когда в неопределенной перспективе он может ожидать от нее только ущерба. Либерализм убежден, что он не может править против воли большинства, что в любом случае бесконечно малые выгоды от искусственного поддержания либерального режима не оправдают возмущения спокойного хода государственного развития, которое сделается неизбежным в случае подавления воли народа. Социал-демократы, безусловно, продолжали бы жульничать с лозунгом демократии, если бы, по исторической случайности, большевистская революция не заставила их до времени сбросить маску и продемонстрировать насилие, неотъемлемое от их учения. 5. Политическое устройство социалистических сообществ За диктатурой пролетариата лежит рай земной, "высшая фаза коммунистического общества", в котором "с всесторонним развитием индивидов вырастут и производительные силы, и все источники общественного богатства польются полным потоком" [Marx, Op. cit., S. 17 <Маркс К., Указ. соч., С. 20>]. В этой земле обетованной "нечего будет подавлять, не будет и надобности в особой силе для подавления, в государстве... На место управления лицами становится управление вещами и руководство производственными процессами" [Engels, Op. cit., S. 302 <Энгельс Ф., Указ. соч., С. 292>]. Настанет эпоха, когда "поколение, выросшее в новых, свободных общественных условиях, окажется в состоянии выкинуть вон весь этот хлам государственности" [Engels, Vorwort zu Marx "Der Burgerkrieg in Frankreich", Ausgabe der Politishen Aktions Bibliothek, Berlin, 1919, S. 16 <Энгельс Ф., Введение к работе К. Маркса "Гражданская война во Франции" // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 22, С. 201>]. Рабочий класс исчезнет, но для этого "ему придется выдержать продолжительную борьбу, пережить целый ряд исторических процессов, которые совершенно изменят и обстоятельства, и людей" [Marx, Der Burgerkrieg..., S.54 <Маркс К., Гражданская война во Франции // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 17, С. 347>]. В результате общество может обходиться без насилия, как некогда в Золотом веке. Об этом Энгельсу есть что сказать, красивого и хорошего [Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, 20 Aufl., Stuttgart, 1921, S. 163 ff. <Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 21, С. 169 и след.>]. Только мы читали уже об этом прежде; все это было изложено лучше и изящнее Виргилием, Овидием и Тацитом! Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo, <Первым век Золотой народился, не
знавший возмездий, Из всего этого следует, что у марксистов не было случая задуматься о проблемах политической организации социалистического общества. Они вообще-то предполагали не иметь дела с такими проблемами, с которыми нельзя было бы справиться простым замалчиванием. И все же даже в социалистическом обществе необходимость действовать совместно должна породить вопрос: как действовать сообща? Придется подумать над тем, как формировать то, что метафорически называют обычно "волей общества" или "волей народа". Если даже нас не остановит неосуществимость такого управления вещами, которое не было бы одновременно управлением людьми, т. е. подчинением воли одного человека воле другого (ведь всякое управление производством есть управление людьми, т. е. господство воли одного над волей многих), все-таки останется вопрос: кто же будет управлять вещами и производственными процессами и в соответствии с чем? А в результате мы опять погружаемся во все политические проблемы регулируемого законом общества. Все исторические попытки реализации социалистического общественного идеала отличались крайней авторитарностью. В империи фараонов и в империи инков, так же как в государстве иезуитов Парагвая, ничто не напоминало о демократии, о самоуправлении большинства народа. {Л. Мизес называет исторические сообщества, где существовала государственная собственность на землю и некоторые другие средства производства. В Египте времен Древнего царства вся земля вместе с населением считалась собственностью верховного владыки -- фараона. И в дальнейшем во владении государства были лучшие земли, ирригационные сооружения. В империи инков -- рабовладельческой деспотии, существовавшей в XV--XVI веке на американском континенте, земля считалась принадлежавшей верховному правителю и обрабатывалась сельскими общинами. Иезуитское государство в Парагвае просуществовало с 1610 по 1768 г. Средства производства здесь считались принадлежащими Иезуитскому ордену, а работающие на них индейцы были низведены до положения рабов.} Все другие социалистические Утопии были в равной степени недемократичными. Ни Платон, ни Сен-Симон не были демократами. {Взгляды древнегреческого философа Платона на идеальное общество изложены в его трудах "Государство", "О законах" и др. В утопии Платона нет равенства, существует жесткое сословное деление, управление находится полностью в руках высшего сословия. Мизес относит Платона к социалистам, поскольку у него два высших сословия -- философы и стражи -- не имеют частной собственности. У французского философа, классика так называемого утопического социализма Анри Клода Робуа Сен-Симона (1760--1825) идеальное общество построено на основе иерархии способностей, а управление осуществляют особые доверенные -- по существу государственные чиновники, регламентирующие производство.} Ни в истории человечества, ни в истории социалистических теорий не найти ничего, что говорило бы о внутренней связи между социализмом и политической демократией. При более внимательном изучении выясняется, что идеальная высшая фаза коммунистического общества, как ее представляют марксисты, ожидаемая только в отдаленном будущем, отчетливо недемократична [Bryce, Moderne Demokratien, Munchen, 1926, III Bd., S. 289 f.]. Социалисты предполагают, что там будет царить вечный мир -- цель всех демократических установлении. Но средства, которыми предполагается достичь этого, очень отличаются от используемых демократами. Мир и покой будут обеспечиваться не возможностью мирно сменять правителей и их политику, но, напротив, постоянством режима, при котором ни правители, ни политика не могут быть изменены. Это тоже покой, только не покой прогресса, к которому стремится либерализм, а покой могилы. Это мир не миротворцев, но "замирителей", насильников, стремящихся принудить к миру. Каждый абсолютный властитель устанавливает такой мир методами абсолютного господства, и длится этот мир столь же долго, сколько удается поддерживать господство. Либерализм видит тщетность всего этого. Он ставит себе целью установить такой мир, который был бы устойчив, несмотря на неистребимую тягу человека к изменениям. Глава IV. Общественный строй и семья 1. Социализм и проблема секса Предложения изменить отношения между полами издавна сопутствовали планам обобществления средств производства. Брак должен исчезнуть вместе с частной собственностью, уступая место установлениям, более гармонирующим с фундаментальными данными о природе секса. Когда мужчина освобождается от необходимости зарабатывать на кусок хлеба, любовь должна освободиться от всех оскверняющих ее материальных ловушек. Социализм обещает не только социальные гарантии -- благосостояние для всех, но и всеобщее счастье в любви. Эта часть программы в немалой степени была причиной популярности социализма. Знаменательно, что в Германии ни одно из социалистических сочинений не было столь же популярно и пропагандистски действенно, как книга Бебеля "Женщина и социализм" посвященная в первую очередь проповеди свободной любви. {Бебель Август (1840--1913) -- один из основателей социал-демократии Германии. Его работа "Женщина и социализм", впервые вышедшая на немецком языке в 1879 г. под названием "Женщина в прошлом, настоящем и будущем", неоднократно переиздавалась в переводе на многие языки. Утверждение Л. Мизеса, что эта книга посвящена в первую очередь проповеди свободной любви, -- полемическое преувеличение.} Нет ничего странного в том, что многие должны ощущать неудовлетворенность существующей у нас системой регулирования сексуальных отношений. Отклоняя сексуальную энергию, являющуюся основой столь многих видов человеческой деятельности, от ее природной сферы -- половой любви к новым задачам, созданным культурным развитием, эта система оказывает далеко идущее влияние на человечество. Она была создана с великими жертвами, и жертвы все еще приносятся. Каждый человек претерпевает в своей жизни процесс, в результате которого сексуальная энергия теряет диффузную, как в детские годы, форму и принимает конечные, зрелые очертания. Человек должен развить внутреннюю психическую силу, которая сдерживает поток недифференцированной сексуальной энергии и, подобно плотине, меняет ее направление. Часть энергии, которой природа снарядила сексуальный инстинкт, таким образом перенаправляется к другим целям. Стресс и борьбу, сопутствующие этому изменению, не каждый минует без ущерба. Многие не выдерживают, многие становятся невротиками или безумными. Даже человек, оставшийся здоровым и ставший полезным членом общества, сохраняет шрамы, которые могут открыться от несчастного случая [Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 2 Aufl., Leipzig und Wien, 1910, S. 38 ff. <Фрейд З., Три статьи о теории полового влечения, М., 1911, С. 35 и след.>]. И если даже секс станет для него источником величайшего счастья, он останется также источником глубочайшей боли; остывающие чувства подскажут, что годы прошли и что он идет путем всей бренной плоти. Таким образом, секс, который как бы вечно кружит человека, давая ему и отнимая, дарит ему счастье и ввергает назад в страдания, никогда не позволяет ему погрузиться в неподвижность. Желания человека во сне и наяву обращаются к любви. Те, кто стремился изменить общество, не могли пройти мимо секса. Этого тем более можно было ожидать, что многие из них были сами невротиками, страдавшими от неудачного развития сексуального инстинкта. Фурье, например, страдал от тяжкого психоза. В каждой букве его писаний очевидна болезненность человека, чья сексуальная жизнь совершенно расстроена; весьма досадно, что никто не проанализировал историю его жизни методами психоанализа. То, что безумные нелепости его книг привлекли столь многих читателей и заслужили высшее признание, обязано той болезненной фантазии, с которой описаны эротические наслаждения, ожидающие человечество в рае "фаланстеров". {В произведениях французского утопического социалиста Шарля Фурье (1772--1837) детально разработано устройство будущего гармонического общества. Фурье утверждал, что неизменно присущие человеку страсти, подавляемые в современном ему обществе, получат полный простор в проектируемых им "фаланстерах" -- общежитиях счастливых людей, где будет господствовать свобода любви.} Утопизм представляет все свои идеалы будущего как восстановление Золотого века, который человечество утратило по собственной вине. Так же и в сфере сексуальной жизни он требует только возврата к исходному блаженству. Поэты античности не менее красноречиво славили ушедшие волшебные времена свободной любви, чем времена Сатурна, когда не было собственности [Poehlman, Op. cit., II Bd., S. 576]. Марксизм вторит старым утопистам. Марксизм и в самом деле стремится сокрушить брак теми же приемами, которые использует для того, чтобы оправдать уничтожение частной собственности, -- пытаясь продемонстрировать его исторические корни; точно так же он обосновывает лозунг уничтожения государства тем, что оно не существовало "извечно", что были времена, когда "понятия не имели о государстве и государственной власти" [Engels, Der Urspung der Familie, des Privateigentums und des Staates, 20 Aufl., Stuttgart, S. 182 <Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной собственности и государства, С. 173>]. Для марксиста исторические исследования просто средство политической агитации. Они нужны, чтобы вооружить людей против ненавистного буржуазного порядка. Основной упрек такому подходу даже не в том, что без тщательного исследования исторического материала выдвигаются пустые, необоснованные теории. Гораздо хуже, что за исторический анализ выдаются псевдонаучные истолкования. Некогда, говорит марксист, был Золотой век. Потом стало скверно, но терпимо. Наконец пришел капитализм, а с ним и все мыслимое зло. Так капитализм оказывается проклят навеки. Единственное, что можно поставить ему в заслугу, так это то, что из-за его отвратительности мир созревает для социалистического спасения. 2. Мужчина и женщина в эпоху насилия Недавние этнографические и исторические исследования дали массу материалов для истории сексуальных отношений, а психоанализ -- новая научная дисциплина -- заложил основы научного понимания сексуальной жизни. Тем не менее, в социологии пока не началось освоение богатых идей и материалов из этих источников. Она не смогла поставить проблемы по-новому, чтобы они соответствовали вопросам, выдвинувшимся на первый план. То, что она говорит об экзогамии и эндогамии, о промискуитете, а тем более о матриархате и патриархате, совершенно не соотносится с теориями, которые сегодня невозможно игнорировать. {Экзогамия -- система брачных отношений, запрещающая браки между членами одной общности, например рода, племени, деревни и т. п. Эндогамия, наоборот, предусматривала браки только в рамках данной общности. Промискуитет -- неупорядоченные половые отношения в обществах, не знающих институтов брака и семьи. Матриархат и патриархат -- первобытно-родовые общества с преобладающей ролью соответственно женщин и мужчин.} Социологические знания о ранней истории семьи и брака настолько ущербны, что их просто невозможно использовать для интерпретации занимающих нас проблем. Эти знания более или менее надежны только там, где речь идет об условиях, существовавших в историческое время, но и только. Там, где царствует принцип насилия, семейные отношения характеризуются неограниченным господством мужчины. Мужская агрессивность, неотъемлемая от самой природы сексуальных отношений, здесь доведена до предела. Женщина принадлежит мужчине и находится в его власти примерно в том же смысле, в каком ему принадлежат другие объекты физического мира. Здесь женщина становится исключительно вещью. Ее крадут и покупают; ее меняют, продают, отдают; коротко говоря, в доме она подобна рабу. Пока мужчина жив, он ее судья; когда он умирает, ее хоронят в могиле вместе с другим имуществом покойного [Westermarck, Geschichte der menschlichen Ehe, Aus dem englischen ubers, von Katscher und Grazer, 2 Aufl., Berlin, 1902, S. 122; Weinhold, Die deutschen Frauen in dem Mittelalter, 3 Aufl., Wien, 1897, II Bd., S. 9 f.]. Старые судебники почти всех народов в один голос говорят, что некогда такое положение было нормальным. Историки обычно пытаются, особенно когда имеют дело с историей собственного народа, смягчить болезненное воздействие этих описаний на ум современного человека. Они указывают, что практика была умеренней, чем буква закона, что жесткость закона не замутняла отношений мужа и жены. Затем они как можно скорей уходят от темы, не слишком согласующейся с их подходом, бросив попутно несколько замечаний о древней суровости нравов и чистоте семейной жизни [см., например: Weinhold, Op. cit., S. 7 ff.]. Но эти попытки оправдания, к которым их толкает национализм или умиление прошлым, неосновательны. Открывающаяся из старых законов и кодексов картина отношений между мужчиной и женщиной -- это не плод теоретических спекуляций оторванных от жизни фантазеров. Она взята из жизни и точно воспроизводит, как понимали мужчины и женщины брак и отношения между полами. То, что и римлянка, вступавшая под "руку" (manus) мужа или под опеку рода, и женщина древней Германии, которая всю жизнь оставалась объектом "защиты", "прикрытия" (munt), находили эти отношения вполне естественными и справедливыми, что они внутренне не восставали против них, не делали никаких попыток стряхнуть это ярмо, вовсе не доказывает, что между законом и практикой существовал разрыв. Это только показывает, что такие установления соответствовали чувствам женщин, и это не должно нас удивлять. Господствующие в каждую эпоху правовые и моральные нормы поддерживаются не только теми, кто оказывается в преимущественном положении, но и теми, кто страдает от них. Господство этих норм выражается тем фактом, что их поддерживали как раз те, от кого требовали жертв. Во времена принципа насилия женщина -- служанка мужчины. В этом она и видит свое назначение. Она разделяет установку, о которой в Новом завете говорится с наибольшей выразительностью: "И не муж создан для жены, но жена для мужа" [Библия. Первое послание к коринфянам., Гл. 11, ст. 9]. Принцип насилия признает только мужчину. Он один обладает властью, ибо только он наделен правами. Женщина есть просто сексуальный объект. Нет женщины без господина, будь это отец или сторож, муж или хозяин. Даже проститутка не свободна: она принадлежит владельцу борделя. Клиенты договариваются не с ней, а с ним. Бродячая женщина беззащитна, и каждый может делать с ней, что пожелает. И право выбирать мужчину не принадлежит женщине. Ее отдают мужу и он берет ее. Любить его -- ее долг, может быть, добродетель; чувство обостряет удовольствие, получаемое мужчиной в браке. Но мнения женщины не спрашивают. Мужчина имеет право отвергнуть ее или развестись с ней; она такого права не имеет. В эпоху насилия вера в мужское господство одерживает верх над более древними тенденциями к равенству в отношениях между полами. Легенды сохранили следы времен, когда женщины наслаждались большей сексуальной свободой, как Брунгильда например, но они уже не внятны современникам. {Брунгильда -- одна из героинь немецкой саги "Песнь о Нибелунгах", дева-воительница. В саге, в частности, рассказывается, что Брунгильда выбирает себе мужа из нескольких претендентов, подвергая их разным испытаниям, в том числе и в постели.} Господство мужчины оказалось настолько чрезмерным, что пришло в противоречие с природой секса, и ради собственных интересов по чисто сексуальным причинам мужчинам пришлось, в конце концов, ослабить свое доминирование. Противно природе, что мужчина берет женщину, как лишенную собственной воли вещь. Отдать и получить -- природа сексуальных отношений. Чисто пассивная, страдательная установка женщины уменьшает наслаждение мужчины. Чтобы получить удовлетворение, он должен вызвать в ней ответное чувство. Победитель, бросивший рабыню в супружескую постель, покупатель, выторговавший дочь у отца, должен добиваться того, чего нельзя получить насилием над сопротивляющейся женщиной. Мужчина, который внешне представляется неограниченным господином своей женщины, не настолько властен в доме, как ему кажется; он вынужден уделять часть власти женщине, хотя постыдно скрывает это от мира. К этому добавляется и другой фактор. Половой акт постепенно начинает требовать от мужчины все большего психического напряжения, и для успеха стали нужны особые стимулы. Интенсивность усилия растет пропорционально тому, как человек подчиняется принципу насилия, который делает всех женщин чьей-то собственностью, а тем самым затрудняет поиск сексуального объекта, требует обуздания сексуальных порывов и контроля над естественным влечением. Половой акт требует теперь особого психологического отношения к объекту влечения. Это и есть любовь, неизвестная примитивному человеку и человеку эпохи насилия, которые использовали каждую возможность, без всякого разбора, для обладания. Любовь, эта сверхоценка объекта, невозможна, когда женщина есть нечто низшее и презренное, как это ей суждено при господстве принципа насилия. Ибо при этом она всего лишь раба, а природа любви делает ее царицей. Из этого противоречия возникает первый великий конфликт в отношениях между полами, который нам открывает история. Брак и любовь делаются противоположностями. Формы проявления этого конфликта меняются, но существо его всегда неизменно. Любовь заняла чувства и мысли мужчин и женщин, и все больше становится центральным пунктом душевной жизни, придавая ей смысл и очарование. Но в начале она не имеет ничего общего с браком и отношениями между мужем и женой. Это неизбежно ведет к тяжким конфликтам, которые донесены до наших дней эпосом и лирикой рыцарских времен. Мы знакомы с этими конфликтами, поскольку они получили бессмертное выражение в искусстве, да и сейчас еще эти темы разрабатывают эпигоны и те художники, которых занимают уцелевшие островки примитивной жизни. Но мы, современные люди, не в силах постичь существо конфликта. Нам не понять, что значит избегать решений, могущих удовлетворить все стороны, почему любящие обречены быть всегда разделенными друг с другом, обречены сохранять связь с нелюбимыми. Там, где на любовь откликаются любовью, где мужчина и женщина желают посвятить свою жизнь друг другу, там согласно нашему пониманию существа дела все должно быть очень просто. Тот род поэзии, который разрабатывает только эту тему, при современных условиях мог бы предложить один выход: Ганс и Грета обретают друг друга. Лишь это привело бы в восхищение читателей семейных романов, но ни в коем случае не трагический конфликт. Если, не зная рыцарской литературы, судить об отношениях между полами исключительно по другим источникам и пытаться составить представление о существе психологического конфликта влюбленного рыцаря, мы, скорее всего, вообразим мужчину, разрывающегося между двумя женщинами: собственной женой, с которой его связывают дети, и другой дамой, которой принадлежит его сердце. Либо мы можем вообразить женщину, которой пренебрегает муж и которая любит другого. Ничто не может быть дальше от реальности эпохи насилия, чем такая картинка. Грек, деливший свое время между гетерами {в Древней Греции гетерами именовались незамужние образованные женщины, ведшие свободный образ жизни, -- подруги и любовницы философов и государственных мужей} и мальчиками для радости, никоим образом не переживал своих отношений с женой как психологическую проблему, да и сама она не видела в любви к куртизанкам покушения на собственные права. Равно и трубадур, посвятивший себя целиком даме сердца, как и его жена, терпеливо ждавшая его дома, не страдали от конфликта между семьей и любовью. И Ульрих фон Лихтенштейн, и его добрая жена воспринимали рыцарскую "Minnedienst" как должное. [Ульрих фон Лихтенштейн, поэт XIII века, спародировал форму рыцарского служения прекрасной даме "Minnedienst" как служение женщине -- "Frauendienst" (1255).] На самом деле конфликт в рыцарской любовной жизни состоял совсем в ином. Когда жена оказывала благосклонность другому, она тем самым нарушала права своего мужа. Как бы рьяно он сам ни добивался любви других женщин, он не мог терпеть нарушения своих прав собственности, он не мог допустить, чтобы кто-либо обладал его женщиной. Таков конфликт, вырастающий из принципа насилия. Муж оскорблен не потому, что жена любит не его, а потому, что ее тело -- его собственность -- может принадлежать другому. В античности и на Востоке, где зачастую мужчина искал любви не у чужой жены, а у проституток, рабынь и мальчиков, т. е. у тех, кто стоял вне общества, конфликт и не мог возникнуть. Любовный конфликт может возбудить только мужская ревность. Только мужчина как хозяин собственной жены может претендовать на полное обладание. У жены нет такого же рода прав на своего мужа. Даже сегодня существенны различия в отношении к неверности жены и неверности мужа, и то, как по разному воспринимают измену другого муж и жена, демонстрируют нам остатки этого кодекса, а без знания о нем мы бы не могли ничего понять. Пока господствует принцип насилия, стремление любить не может получить развития. Изгнанное из семьи, оно ищет любого потаенного местечка, принимает самые причудливые формы. Возникают условия для быстрого распространения венерических болезней. Был ли сифилис занесен в Европу из Америки или это была вполне "своя" болезнь -- еще вопрос. Но мы знаем, что с начала XVI века он распространяется по Европе как эпидемия. Принесенные им мучения покончили с любовной игрой романтичного рыцарства. 3. Брак под действием принципа договора Сейчас господствует только одна оценка влияния "экономики" на сексуальные отношения: оно было очень плохим. Согласно этому подходу воздействие экономических факторов опорочило первоначальную природную чистоту сексуальных отношений. Ни в какой другой области человеческой жизни прогресс культуры и рост благосостояния не имели более пагубного влияния. Отношения мужчины и женщины в древности были образцом чистейшей любви; в докапиталистическую эпоху брак и семейная жизнь были простыми и естественными, но капитализм принес брак из-за денег и manages des convenance {manages des convenance -- брак по расчету (фр.)}, с одной стороны, проституцию и сексуальные излишества -- с другой. Последние исторические и этнографические исследования показали ошибочность такого понимания и дали нам другое представление о сексуальной жизни в первобытную эпоху и у неразвитых народов. Современная литература показала, насколько далекими от реалий были совсем еще недавно наши вошедшие в поговорки представления о простоте нравов селян. Но старые предрассудки столь глубоко укоренены, что их почти не поколебали новые знания. К тому же социалистическая литература с новым пафосом продолжала распространять эту легенду. И сегодня мало кто сомневается в том, что современное понимание брака как договора является оскорбительным для самого существа сексуальных отношений и что именно капитализм разрушил чистоту семейной жизни. Ученому трудно определиться по отношению к методам, которые основываются на возвышенных чувствах, а не на анализе фактов. Ученый не судит, что является благим, благородным, нравственным и добродетельным, -- это не его поле. Но он не может не вносить поправок в принятые взгляды в существенных вопросах. В наше время идеал сексуальных отношений совершенно отличен от того, каким он был в древности, и никогда человечество не подходило к идеалу ближе, чем сейчас. Сексуальные отношения в старые добрые времена представляются полностью неудовлетворительными с позиций этого нашего идеала. А значит, приходится признать, что этот идеал должен был возникнуть как раз в результате развития, проклинаемого современной теорией как причина того, что идеал реализован не полностью. Совершенно ясно, что господствующая доктрина не основывается на фактах. Скорее даже можно сказать, что она ставит эти факты с ног на голову и абсолютно непригодна для познания проблемы. Там, где господствует принцип насилия, полигамия торжествует. У каждого мужчины столько жен, сколько он способен отстоять. Жены являются формой собственности, и всегда лучше иметь побольше. Мужчина стремится иметь больше жен так же, как он старается заиметь больше рабов или коров. Фактически его моральные установки по отношению к женам, рабам и коровам одинаковы. Он требует верности от своей жены; он один может распоряжаться ее трудом и ее телом, сохраняя себя свободным от каких-либо уз. Мужская верность предполагает моногамию [Weinhold, Op. cit., I Aufl., Wien, 1851, S. 292 ff.]. Более могущественный властитель имеет право также и на жен своих подданных [Westermarck, Op. cit., S. 74 ff.; Weinhold, Op. cit., 3 Aufl., Wien, I Bd., S. 273]. Широко известное Jus Primae Noctis было отголоском этих условий, последним плодом которых было соитие свекра с невесткой в "большой семье" у южных славян. {Jus Primae Noctis -- право первой ночи (лат.). Согласно средневековому обычаю феодалу при вступлении его крепостного или вассала в брак принадлежало право первому провести ночь с новобрачной.} Реформаторы морали не устранили полигамии, да и церковь поначалу не трогала ее. Веками христианство и не думало протестовать против многоженства варварских королей. Карл Великий {Карл Великий (742--814) -- французский король, затем император, основатель династии каролингов} содержал множество наложниц [Schroder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 3 Aufl., Leipzig, 1898, S. 70, 110; Weinhold, Op. cit., II Bd., S. 12 ff.]. По своей природе многоженство никогда не было обыкновением бедняков -- только богачи и аристократия могли наслаждаться им [Tacitus, Germania, s. 17 <Тацит К., О происхождении германцев..., С. 361> {у Тацита, на которого ссылается Л. Мизес, говорится о древних германцах: "А если кто и имеет по нескольку жен, то его побуждает к этому не любострастие, а занимаемое им видное положение"}]. Но именно у этих групп начались растущие сложности, поскольку женщины приходили в брачный союз как наследницы и владелицы, получали богатое приданое и наделялись большими правами по распоряжению этим приданым. К единобрачию потихоньку подталкивали жена, приносившая богатство своему мужу, и ее родственники -- прямое проявление того, как капиталистические мысль и расчет проникали в семейную жизнь. Чтобы закон защищал собственность жены и детей, была проведена четкая грань между законными и незаконными связями и наследниками. Отношения между мужем и женой закрепляются в контракте [Marianne Weber, Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung, Tubingen, 1907, S. 53 ff., 217 ff.]. Узаконивание идеи брачного контракта разрушило господство мужчин и сделало жену партнером с равными правами. Из односторонних, основанных на силе отношений брак превращается во взаимное соглашение; служанка становится женой, имеющей право требовать от мужчины того же, что может требовать от нее он. Шаг за шагом она завоевывает в доме те позиции, которые занимает ныне. Сегодня положение женщины отличается от положения мужчины только в том отношении, что различается выполняемая ими в супружеской жизни деятельность. Остатки мужских привилегий имеют малое значение и сводятся к почетным символам, например к тому, что жена принимает имя мужа. Брак эволюционировал вместе с законом о собственности супругов. Положение женщины в семье улучшалось по мере ослабления принципа насилия. Одновременно с совершенствованием идеи договора в других сферах закона о собственности закономерно трансформировались отношения собственности между супругами. Жена впервые была освобождена от власти супруга? когда она получила законную власть над богатством, которое она принесла в семью и которое она приобрела за время семейной жизни, и когда то, что муж предоставлял ей согласно обычаю, превратилось в пособие, к выплате которого можно принудить законом. Известная нам форма брака возникла в результате проникновения идеи договора в эту область жизни. Все чтимые нами идеалы брачного союза развились на этой основе. Что брак связывает одного мужчину и одну женщину, что он возникает по свободной воле обеих сторон, что супружеский долг предполагает взаимную верность, что мужскую измену следует оценивать так же, как и женскую, что права мужа и жены, в сущности, одинаковы, -- эти принципы развились из идеи брачного договора. Ни один народ не может похвастать, что его предки представляли себе брак так же, как и мы. Наука не судит о том, были ли некогда нравы более суровыми, чем ныне. Мы можем только утверждать, что наши представления о браке отличаются от взглядов прошлых поколений и что прежние идеалы брака в наших глазах выглядят безнравственными. Когда воспевающие старые добрые нравы проклинают институт развода, расторжения брака, они правы в том, что ничего такого прежде не существовало. Былое право мужа выгнать жену из дома никоим образом не напоминает современного закона о разводе. Ничто лучше не свидетельствует о громадном изменении воззрений, чем различия этих двух установлении. И когда церковь берет на себя лидерство в борьбе против развода, не худо припомнить, что современный идеал единобрачия с равными правами у мужа и жены, на защиту которого поднялась церковь, есть результат капиталистического, а не церковного развития. 4. Проблемы семейной жизни В современном договорном браке, который заключается по желанию мужа и жены, брак и любовь объединены. Брак представляется морально оправданным, когда он заключается по любви; заключенный без любви брак представляется неприличным. Нам кажутся странными эти заключаемые на расстоянии королевские бракосочетания. Как и большинство мыслей и поступков правящих домов, они отдают эпохой насилия. И то, что считается необходимым представлять публике эти союзы как заключенные по любви, показывает, что даже королевские семьи не смогли противостоять буржуазному идеалу брака. В современной супружеской жизни конфликты порождаются, прежде всего, тем, что страсть остывает, а контракт заключается пожизненный. "Страсть улетает, но любовь должна остаться", -- говорит Шиллер, поэт буржуазной семьи. В большинстве браков, благословенных детьми, супружеская любовь увядает медленно и незаметно; ее место занимает дружеская привязанность, через которую опять и опять прорываются короткие вспышки былой любви; совместная жизнь становится привычной, и в своих детях, воспитанию которых была посвящена молодость, родители находят утешение за воздержание, к которому их принуждает старость, уносящая силы. Но так бывает не у всех. Есть много способов примириться с конечностью земных странствий. Верующему утешение и мужество дает религия; она позволяет ему видеть в личном бытии как проявлении бесконечного потока вечной жизни свое определенное место в безупречном плане Создателя и Вседержителя, позволяет подняться над временем и пространством, над старостью и смертью в небесные поля. Другие находят удовлетворение в философии. Они отказываются верить в благодетельное провидение, представление о котором противоречит опыту; они свысока взирают на легкое утешение, которое можно извлечь из произвольных фантазий, из воображаемой картины мира, созданной, чтобы не видеть реальности. Но большинство людей следуют иным путем. С безразличием и равнодушием они покоряются повседневности; их мысль никогда не выходит за пределы сиюминутных требований, они рабы привычек и страстей. Есть еще и четвертая группа -- люди, которые нигде и ни в чем не могут найти умиротворения. Такие люди не способны верить, ибо уже вкусили от древа познания; тупо смириться они не могут, потому что это противоречит их натуре. Они слишком беспокойны и неуравновешенны, чтобы философски приспособиться к реальности. Во что бы то ни стало они стремятся достичь счастья и удержать его. Изо всех сил они налегают на решетки, ограничивающие их стремления. Они не смиряются. Они жаждут невозможного: ищут счастья не в стремлении, но в достижении, не в битве, но в победе. Такие натуры не переносят брачных уз, когда дикий огонь первой любви начинает угасать. Они предъявляют высочайшие требования к самой любви и преувеличивают обычную сверхоценку сексуального объекта. Это обрекает их, хотя бы по чисто физиологическим причинам, на более раннее, чем у большинства умеренных людей, разочарование в тесном общении в совместной жизни. И это разочарование способно превратить первоначальные чувства в их противоположность. Любовь оборачивается ненавистью. Совместная жизнь становится пыткой. Кто не способен смирить себя, кто не желает умерить иллюзии первых дней брака, кто не умеет перенести на детей в сублимированной форме желания, которые больше не насыщаются любовью, тот не создан для брака. Из брака он устремляется к новому предмету любви, чтобы в новых отношениях снова повторить старый опыт. Но все это не имеет никакого отношения к общественным условиям брака. Такие браки обречены не потому, что супруги живут в капиталистическом обществе, где средства производства находятся в частной собственности. Болезнь приходит изнутри, а не извне; она развивается из природных склонностей партнеров. Нелепо доказывать, что раз таких конфликтов не было в докапиталистическом обществе, значит, тогда брачные узы включали что-то, чего нет в этих болезненных семьях. Правда в том, что любовь и семья были в те времена отделены друг от друга, и никто не ждал, что брак принесет длительное и безоблачное счастье. Только когда идея договора и согласия наложилась на институт брака, супружеские пары потребовали, чтобы удовлетворение желаний в их союзе было непрерывным. Такого требования любовь, видимо, удовлетворить не может. Счастье в любви приносят соперничество за благосклонность любимой и удовлетворение от долгожданного обладания. Нет нужды обсуждать возможность того, что такое счастье может длиться и после физиологического насыщения. Мы определенно знаем, что удовлетворенное желание раньше или позже остывает и что попытки остановить мимолетные часы восторга тщетны. Не следует проклинать брак за нашу неспособность превратить земное существование в бесконечную цепь экстазов, лучащихся наслаждениями любви. Такой же ошибкой было бы винить в этом социальное окружение. Семейные конфликты, порождаемые социальными условиями, имеют подчиненное значение. Было бы ошибкой предполагать, что браки по расчету (ради приданого жены или богатства мужа) или союзы, ставшие несчастными из-за экономических трудностей, составляют важную часть проблемы, как можно представить по частоте этих сюжетов в беллетристике. Из таких конфликтов всегда нетрудно найти выход, если, конечно, его хотят найти. Брак как социальный институт представляет собой включение индивидуума в общественный порядок, в результате чего он принимает на себя все права и обязанности в определенной сфере деятельности. Исключительные натуры, одаренность которых ставит их много выше среднего уровня, не могут принять то насилие, которое неотделимо от этого приспособления к обычному порядку жизни. Кто чувствует в себе стремление к великим свершениям, кто готов скорее пожертвовать собственной жизнью, чем изменить своему назначению, не откажется от своих стремлений ради жены и детей. Сколь бы ни был любвеобилен гений, в его жизни женщина и все, что ей сопутствует, занимает ограниченное место. Мы не говорим здесь о тех великих людях, которые полностью сублимировали половое влечение и направили его в другие каналы, как, например, Кант, или о тех, чей огненный дух, не способный насытиться любовью, спешит с неусыпной жаждой от одной страсти к другой, избегая неизбежных разочарований семейной жизни. Даже те гениальные люди, брачная жизнь которых выглядит обычной, чье отношение к половой жизни не отличается от общепринятого, не могут долго обуздывать себя в браке, не совершая над собой насилия. Гений не позволяет связать себя никакими соображениями о благополучии ближних, в том числе и тех, кто ему особенно дорог. Узы брака становятся непереносимыми, и гений пытается стряхнуть или, по крайней мере, ослабить их, чтобы быть свободней. Супружество -- это движение колонной по двое. Желающий идти собственным путем должен быть свободен. Очень редко ему удается встретить женщину, готовую и способную сопровождать его на его одинокой тропе. Все это было осознано давно и настолько уже стало достоянием массы, что неверный муж чувствует себя вынужденным оправдывать свое поведение именно в этих терминах. Но гениальность редка, и социальные установки не меняются из-за того, что один или два исключительных человека не способны к ним приноровиться. С этой стороны браку ничто не угрожает. Атаки феминисток в XIX веке казались более серьезной угрозой. Лидеры феминисток заявляли, что брак принуждает женщину жертвовать своей личностью. Он дает мужчине достаточно возможностей для развития, но женщину лишает всякой свободы. Это было вменено неизменной природе брака, который связывает воедино мужа и жену и тем самым обрекает более слабую женщину на роль служанки у своего мужа. Никакими реформами этого не изменить; только разрушение всего института брака может избавить от зла. Женщина должна биться за свою свободу -- не только за свободу любви, но и за свободу развития личности. Вольные связи, которые дают свободу обоим, должны заменить брак. Радикальное крыло феминизма, твердо стоящее на этой позиции, не учло того, что развитие способностей и сил женщины сдерживается не браком, не тем, что она повязана мужчиной, детьми и домашним хозяйством, но особенностями ее физиологии. Беременность и вскармливание детей поглощают лучшие годы жизни женщины, те годы, которые мужчина может посвятить достижению великих целей. Можно считать, что в этом неравном распределении бремени воспроизводства проявилась природная несправедливость или что недостойно женщине рожать и кормить детей, но ведь это ничего не изменит. Женщина, вероятно, может выбирать между наибольшим женским счастьем -- материнством и активной деятельностью по развитию и утверждению своей личности наравне с мужчиной. Можно усомниться, безвреден ли вообще такой выбор: ведь, подавив стремление к материнству, женщина наносит себе ущерб, который потом будет сказываться во всем, что она делает. В то же время остается фактом, что материнство -- в браке или вне его -- лишает ее возможности жить столь же свободно и независимо, как мужчина. Сверходаренные женщины могут иметь поразительные достижения, несмотря на материнство, но все-таки особенности их пола закрывают им дорогу к гениальности, к высочайшим свершениям. В той степени, в какой феминистское движение стремится к уравниванию правового положения мужчины и женщины, к обеспечению для женщин достаточных правовых и экономических свобод для саморазвития в соответствии с желаниями, склонностями и хозяйственными возможностями, оно является не более чем ветвью великого либерального движения, защищающего мирное и свободное развитие. Когда феминизм выходит за эти рамки и нападает на установления общественной жизни в надежде устранить природные ограничения, он является духовным порождением социализма. Ибо именно социализму свойственно, обнаружив природные корни социальных институтов, пытаться изменить эти институты, чтобы реформировать самое Природу. 5. Свободная любовь Социалисты видят радикальное решение сексуальных проблем в свободной любви. Социалистическое общество устраняет сексуально-экономическую зависимость женщины, которая состоит в том, что женщина зависит от доходов своего мужа. Мужчина и женщина обладают равными экономическими правами и, если не считать материнства, которое ставит женщину в особое положение, равными обязанностями. Общественные фонды обеспечивают содержание и образование детей, которые из-под опеки родителей поступают под опеку всего общества. Таким образом, социальные и экономические условия перестают влиять на отношения между полами. Спаривание приходит на место простейших форм общественных союзов -- брака и семьи. Семья исчезает, и обществу предстоят только отдельные индивидуумы. Любовный выбор становится абсолютно свободным. Мужчины и женщины сходятся и расходятся, повинуясь только своим желаниям. При этом "социализм здесь не создает ничего нового, он лишь снова поднимает на высшую культурную ступень и при новых общественных формах то, что было общепризнано, пока в обществе не наступило господство частной собственности" [August Bebel, Die Frau und der Sozialismus, 16 Aufl., Stuttgart, 1892, S. 343 <Бебель А., Женщина и социализм, М., 1959, С. 546--547>]. Аргументы теологов и других проповедников нравственности, -- порой елейные, порой ядовитые, -- совершенно непригодны для борьбы с этой программой. Большинство авторов, посвятивших себя проблемам половой жизни, исповедовали монашеские и аскетические идеалы. Для них сексуальный инстинкт есть абсолютное зло, чувственность есть грех, сладострастие есть дар дьявола и даже думать о таких вещах безнравственно. От наших склонностей и ценностных предпочтений зависит, принять ли это осуждение сексуального инстинкта. С научной точки зрения попытки моралистов заклеймить или оправдать эту сферу жизни -- потерянный труд. Нельзя навязать науке роль судьи и ценителя, не выходя за границы научного метода: он пригоден для выбора средств, адекватных поставленным целям, но не может быть использован для относительной оценки самих целей. При столкновении с этическими проблемами ученому следовало бы указать, что, начав с отрицания сексуального инстинкта как чего-то скверного, мы лишаемся возможности в дальнейшем выражать в зависимости от условий свою моральную терпимость или одобрение половому акту. Убогая софистика породила распространенное суждение, согласно которому чувственное удовольствие, извлекаемое из полового акта, пагубно, но надлежащее выполнение debitum conjugate {debitum conjugate -- супружеский долг (лат.)} ради рождения наследников вполне морально. Брачная связь всегда чувственна; ни один младенец не был еще зачат из законопослушного понимания того, что государству нужны новые рекруты и налогоплательщики. Чтобы быть вполне логичной, этическая система, покрывшая стыдом акт размножения, должна была бы призывать к полному и безусловному воздержанию. Если мы не хотим прекращения жизни, нам не следовало бы называть источник ее обновления сосудом зла. Ничто не отравило нравы современного общества больше, чем этическая система, которая, избегая последовательного порицания и последовательного оправдания, затуманивает различия между добром и злом и делает зло невероятно притягательным. Она больше, чем что-либо другое, повинна в бессильных колебаниях современного человека в вопросах половой морали и не способна должным образом оценить громадные проблемы в отношениях между полами. Ясно, что в жизни мужчины секс играет меньшую роль, чем в жизни женщины. Удовлетворение приносит ему расслабление и душевный покой. Но для женщины здесь начало бремени материнства. Ее судьба полностью предопределена тем, что связано с полом; в мужской жизни это только эпизод. Сколь бы напряженно и полно он ни отдавался любви, сколько бы ни взвалил на себя ради женщины, он всегда остается над сексом. Даже женщины начинают, в конце концов, презирать мужчину, всецело поглощенного сексом. Но женщина обречена на то, чтобы исчерпать себя в любви и материнстве, в служении сексуальному инстинкту. Для мужчины порой нелегко под давлением профессиональных тревог сохранить внутреннюю свободу и развить свою личность, но сексуальная жизнь здесь не является главным препятствием. Для личности женщины, однако, главная опасность лежит именно в области секса. Борьба за индивидуальность женщины составляет существо женского вопроса. Но вопрос этот затрагивает мужчин не меньше, чем женщин, ибо только совместным усилием могут они достичь высшего уровня личной культуры. Если женщина все время тянет мужчину в низшие сферы физической зависимости, он не сможет развиваться свободно. Обеспечить женщинам свободу внутренней жизни -- в этом истинный смысл женского вопроса. Но это часть культурной задачи всего человечества. Восток деградировал, потому что он не смог решить эту проблему. Здесь женщина только объект похоти, мать и нянька. Каждый начинающийся подъем личностной культуры с первых же шагов тормозился в странах Востока тем, что женское начало стаскивало мужчину назад, в миазмы гарема. Сегодня ничто не разделяет Восток и Запад более определенно, чем положение женщины и отношение к женщине. Нередко утверждают, что жизненная мудрость Востока постигла последние вопросы бытия глубже, в отличие от философии Европы. Во всяком случае тот факт, что она никогда не могла справиться с сексуальностью, предрешило судьбу восточных культур. Между Востоком и Западом выросла уникальная культура греков. Но и античности не посчастливилось поднять женщину столь же высоко, как мужчину. Греческая культура исключала замужних женщин. Женщина оставалась на своей половине, отделенная от мира; для мужчины она была всего лишь матерью его наследников и служанкой в доме. Любовь мужчины принадлежала только гетерам. Не найдя и здесь полного удовлетворения, он обратился к гомосексуальной любви. Для Платона любовь к мальчикам просветлена духовным единством любящих и радостным преклонением перед красотой тела и души. Для него любовь к женщине была просто грубым чувственным удовлетворением. Для западного мужчины женщина -- спутник, для восточного -- наложница. Европейская женщина не всегда занимала те позиции, что сейчас. Она завоевала их в ходе развития общества от принципа насилия к принципу договора. И теперь мужчина и женщина равны перед законом. Небольшие различия еще существуют в частном праве, но они малосущественны. Предписывает ли закон жене подчиняться мужу -- не так уж важно; пока брак существует, кто-то всегда будет подчиняться, а окажется ли более сильным муж или жена -- вопрос, который не может быть разрешен параграфами кодекса. Не имеет прежнего значения и ограничение политических прав женщин -- лишение права голоса и права занимать правительственные должности. Предоставление женщинам права голоса не изменяет существенно соотношения политических влияний партий в той или иной стране; женщины тех партий, которые должны пострадать от ожидаемых изменений (в любом случае не весьма важных), в собственных интересах скорее воспротивятся предоставлению женщинам права голоса. В правительственную администрацию женщин не допускают не столько по требованию закона, сколько в силу их половых особенностей. Не принижая ценность феминистской борьбы за расширение гражданских прав женщин, можно уверенно утверждать, что ни женщинам, ни обществу в целом не наносят существенного ущерба те остатки правового принижения женщин, которые еще сохраняются в законодательстве цивилизованных стран. Искаженное понимание принципа равенства перед законом, вообще присущее сфере общественных отношений, проявляется и в специальной области отношений между полами. Так же как псевдодемократические движения норовят декретами упразднить природно и социально обусловленные формы неравенства и уравнять сильного и слабого, одаренного и бездарного, здорового и больного, так и радикальное крыло женского движения стремится уравнять мужчину и женщину. [В рамки этого исследования не входит рассмотрение того, в какой степени радикальность требований феминизма обязана мужчинам и женщинам с сексуальными отклонениями.] Хотя не в их силах возложить на мужчину половину бремени материнства, они желали бы разрушения брачной и семейной жизни для того, чтобы женщина получила хотя бы те свободы, которые совместимы с материнством. Не принимая во внимание обремененность мужем и детьми, женщина должна свободно передвигаться и действовать, иметь возможность жить для себя и развития своей личности. Различия сексуальной природы и предназначения можно устранить декретом с тем же успехом, что и другие виды неравенства. Чтобы сравняться с мужчиной в деятельности и ее результатах, женщина нуждается в том, чего не могут дать законы. Внутренне несвободной женщину делает не брак, но сексуальная природа, которая требует подчинения мужчине, и любовь к мужу и детям, которая поглощает ее лучшие силы. Нет закона, который помешал бы женщине, ищущей счастье в карьере, отринуть любовь и замужество. Но у тех, кто поступает иначе, просто не остается сил, чтобы строить свою жизнь так же, как это может делать мужчина. Женщину сковывает не замужество и семья, а сила, с которой сексуальное начало подчиняет себе всю ее личность целиком. "Уничтожение" брака не сделает женщину более счастливой и свободной; это просто лишит ее существенного компонента жизни и не даст ничего взамен. Борьба женщин за сохранение своей личности в замужестве есть часть борьбы за целостность личности, столь характерной для рационалистического общественного порядка, основанного на частной собственности на средства производства. Победа женщин в этой борьбе в интересах не только женщин; противопоставление интересов мужчины и женщины, как это в обычае у крайних феминисток, крайне глупо. Все человечество пострадает, если женщина потерпит поражение в развитии своего Я и не сможет партнерствовать с мужчиной как равная, свободная от рождения подруга и товарищ. Отнять у женщины детей, чтобы выращивать их в неких заведениях, значит забрать часть ее жизни; да и дети лишены наиболее глубокого воздействия, которое они получают в лоне семьи. Лишь недавно Фрейд с проницательностью гения показал, сколь глубокое воздействие оказывает на ребенка родительский дом. {Фрейд Зигмунд (1856--1939) -- австрийский психиатр и психолог, основоположник психоанализа. По Фрейду, в формировании характера личности и ее патологии решающая роль принадлежит детству.} У родителей ребенок учится любви и так обретает силы, которые позволяют ему вырасти здоровым человеком. Раздельное обучение порождает гомосексуальность и неврозы. Совсем не случайно, что именно к Платону восходят требования равенства мужчин и женщин, идеи государственного регулирования сексуальных отношений и воспитания детей от рождения в специальных яслях, чтобы родители и дети вовсе не знали друг друга. {Согласно воззрениям Платона, изложенным в его трактате "Государство", в идеальном обществе государство должно регулировать подбор пар для деторождения, а дети должны отбираться у родителей сразу же после рождения, чем будет обеспечиваться общность детей как необходимое условие общего владения имуществом и справедливого распределения предметов потребления.} В женщине он видел только источник физического наслаждения. Развитие, которое привело от принципа насилия к принципу договора, утвердило отношения мужчины и женщины на свободном выборе в любви. Женщина может отвергнуть любого, она может требовать верности и постоянства от мужчины, которому отдает себя. Только на этом пути возможно развитие личности женщины. Возвращаясь к принципу насилия и сознательно отвергая идею договора, социализм -- при всем его стремлении к равному распределению награбленного -- должен, в конце концов, потребовать промискуитета в половой жизни. 6. Проституция Коммунистический манифест провозглашает, что "дополнением" "буржуазной семьи" является проституция. "С исчезновением капитала" проституция также исчезнет [Marx und Engels, Das Kommunistische Manifest, 7 Aufl., Berlin, 1906, S. 35 <Маркс и Энгельс, Манифест Коммунистической партии //Соч., Т. 4, С. 444>]. В книге Бебеля о женщинах есть глава под названием "Проституция, необходимое социальное учреждение буржуазного общества". Здесь развивается воззрение, согласно которому проституция необходима в буржуазном обществе подобно "полиции, постоянному войску, церкви, предпринимательству" [Bebel, Op. cit., S. 141 ff. <Бебель А., Указ. соч., С. 227>]. С момента своего появления воззрение на проституцию как на продукт капитализма невероятно распространилось. А поскольку к тому же проповедники все еще сокрушаются о добрых старых нравах и обличают современную культуру как причину разнузданности, каждый убежден, что все сексуальные извращения -- явление упадка, свойственное нашему времени. Для возражения достаточно указать на то, что проституция есть чрезвычайно древнее установление, известное, наверное, всем когда-либо существовавшим народам [Marianne Weber, Op. cit., S. 6 ff.]. Это остаток древних нравов, а не результат упадка высокой культуры. Сегодня одно из самых действенных средств против нее -- требование мужского воздержания вне брака -- целиком относится к принципам морального уравнивания прав мужчин и женщин и уже в силу этого принадлежит к идеалам капиталистической эпохи. В эпоху принципа насилия сексуальной чистоты требовали только от невесты, но не от жениха. Все факторы, которые ныне благоприятствуют проституции, не имеют ничего общего с частной собственностью и капитализмом. Армия, препятствующая женитьбе молодых людей дольше, чем они способны терпеть, есть все что угодно, но не результат мирного либерализма. Тот факт, что правительственные и иные чиновники могут жениться, только будучи достаточно богатыми, ибо в противном случае они не смогут выходить в свет, есть, как и другие кастовые условности, наследие докапиталистического сознания. Капитализм не признает каст и кастовых обычаев; при капитализме каждый живет в соответствии с доходами. Некоторых женщин приводит к проституции потребность в мужчинах, других -- голод. Для многих действенны оба мотива. Можно без дальнейшего обсуждения признать, что в обществе с равенством доходов экономические стимулы проституции исчезнут полностью или сведутся к минимуму. Но тщетно размышлять о том, не возникнут ли в обществе без неравенства доходов новые социальные источники проституции. В любом случае невозможно просто заявить, что в социалистическом обществе этика половых отношений будет более удовлетворительной, чем в капиталистическом обществе. Именно при исследовании отношений между половой жизнью и собственностью, больше, чем в других областях социального знания, следует прояснить и уточнить наши идеи. Современное понимание этих проблем затемнено всякого рода предрассудками. При столкновении с этими проблемами мы не должны уподобляться мечтателю, который грезит видениями утраченного рая, видит будущее в розовом цвете и проклинает все, что его окружает в реальности. Комментарии (1)Последние темы:
Часть I. Либерализм и социализм |
Все темы
|
| [email protected] | Московский Либертариум, 1994-2020 | |